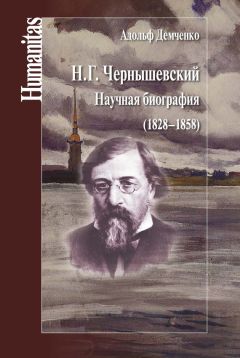Причислив остаток от доходов с флигелей 7 руб. 65 коп. к доходам моим от церкви, могут составиться полные триста рублей серебром. Из сих трехсот рублей я отделяю в настоящее время на содержание сына моего каждомесячно двадцать рублей серебром, что составляет в год 240 рублей серебром. После сего о собственном моем содержании излишне было бы пересказывать начальству.
Объяснив всё по честной моей совести, покорнейше прошу Ваше Высокопреподобие представить и моё сведение в милостивое Архипастырское внимание и благоуважение Его Преосвященства».[333]
В рапорте инспектора семинарии Тихона данные Г. И. Чернышевского подтверждены. 19 января 1848 г. Афанасий приказал оформить свидетельство «с прописанием обстоятельств», и 26 января состоялось решение консистории о выдаче документа.
Приведённые факты – единственный источник сведений о материальном положении семьи в год определения Николая Чернышевского в университет. Ежегодный денежный доход Гаврилы Ивановича составлял 300 руб., плата за обучение 40 руб. да на содержание сына 240 руб. – совершенно непосильная для него задача. Материальная несостоятельность была настолько очевидной, что недоброжелателям Г. И. Чернышевского, всеми дозволенными и недозволенными способами препятствовавшим в получении справки о недостаточном имущественном положении, всё же не удалось убедить епархиального начальника в обратном.
Открытое выступление секретаря консистории, хотя и оказавшееся безуспешным, говорило о пошатнувшемся положении протоиерея после инцидента 1843 г. История со справкой должна была ещё раз подтвердить правильность принятого решения отдать сына в университет.
В городе многие не одобряли решение протоиерея. «Инспектор семинарии Тихон, – рассказывает мемуарист, – встретивши Евгению Егоровну у кого-то в гостях, спросил её: „Что вы вздумали взять вашего сына из семинарии? Разве вы не расположены к духовному званию?” На это мать Николая Гавриловича отвечала ему: „Сами знаете, как унижаемо духовное звание: мы с мужем и порешили отдать его в университет”. „Напрасно вы лишаете духовенство такого светила”, – сказал ей инспектор».[334]
А. Н. Пыпин вспоминал, что перед отъездом в Петербург Николай Чернышевский «любил проводить время в долгих прогулках и долгих разговорах» со сверстниками. «Это были молодые люди из того помещичьего круга, с которым бывал знаком его отец, молодые люди с известным светским образованием, между прочим университетским. Большая разница лет делала для меня, – писал Пыпин, – чужим это товарищество, но, судя по более поздним воспоминаниям, в этих беседах затрагивались именно темы идеалистические и первые темы общественные».[335] Из приведённых выше документов круг светских знакомых Чернышевских 1846 г. частично восстанавливается: Д. Я. Чесноков, Г. М. Шапошников, О. И. Балинский, А. П. Леонтьев, П. И. Соколовский, А. Г. Кошелев, А. О. Александровский, В. Н. Григорьев. С семьёй чиновника саратовской казенной палаты Д. Я. Чеснокова Н. Г. Чернышевский поддерживал постоянные отношения. С Василием Дмитриевичем Чесноковым, товарищем детских игр, он переписывался в 1846 г. (XIV, 40). О его брате Николае Дмитриевиче в 1850 г. отзывался как о «довольно порядочном человеке» (I, 359), с Фёдором Дмитриевичем вёл приятельство в 1851–1853 гг. (I, 548). В дневнике Чернышевского 1853 г. фигурируют два взрослых сына саратовского губернского казначея казённой палаты Г. М. Шапошникова Иван и Сергей. Врач (поляк и католик), «сосед по домам» О. И. Балинский был «самый главный приятель» Гаврилы Ивановича (I, 677). Установить имена других собеседников Чернышевского в 1845–1846 гг., тем более имевших университетское образование, как о том писал Пыпин, пока не удается. Возможно, приезжавший летом 1845 г. к Чернышевским А. Ф. Раев, студент Петербургского университета, и остался в памяти мемуариста как один из таких посетителей.[336]
Указание Пыпина на «первые темы общественные», которые составляли содержание бесед Чернышевского со своими сверстниками, должно быть признано важным свидетельством. Мы не знаем, какие именно общественные дела могли занимать юношу в предуниверситетский период, но сам факт позволяет говорить о значительном расширении кругозора Чернышевского, о внимании к общественным проблемам в пору, когда среди тогдашней интеллигенции всё настойчивее и смелее обсуждались исторические судьбы русского государственного управления, основанного на крепостном праве. «С 1842 года главным занятием мыслящих русских было обдумывание способа раскрепощения крестьян. Все другие задачи зависели от этого», – писал А. И. Герцен.[337]
Спору нет, слова Герцена не могут быть в полной мере соотнесены с размышлениями Чернышевского, который, конечно же, в ранние юношеские годы ещё не достиг такой степени зрелости, чтобы осмыслить социальные корни крепостничества. По некоторым данным можно утверждать, что критика Чернышевским социального устройства могла осуществляться только в религиозно-нравственном плане, в духе христианской любви к ближнему, к обездоленному и страждущему. Так, из письма от 30 августа 1846 г., посланного Чернышевским Л. Н. Котляревской из Петербурга, видно, что в Саратове они вместе упоённо читали романы французского писателя Э. Сю «Парижские тайны», перевод которого публиковался в журнале «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров» за 1843 г. и вышел отдельным изданием в 1844 г., и «Вечный жид», ставший известным русскому читателю «Библиотеки для чтения» в 1844–1845 гг. В «Парижских тайнах» привлекала Чернышевского симпатия автора к бесправному народу, некоторые представители которого становятся злодеями и негодяями исключительно «от недостатка нравственного воспитания», «бедности» и влияния «дурного общества». Юному читателю импонировала мысль, что в этих несчастных людях ещё остался «голос совести и чести», «и как легко было бы правительству, – рассуждает Чернышевский вслед за французским автором, – если б оно захотело, или даже частным богатым людям предупредить порчу сердца и воли во всех почти тех, которые являются такими чудовищами, или даже исправить уже испортившихся» (XIV, 44). Осуждённые передовой русской критикой наивные идеи религиозно-нравственного перерождения общества, вылившиеся в «Вечном жиде» в «океан фразёрства в вымысле площадных эффектов, невыносимых натяжек, невыразимой пошлости»,[338] Чернышевский между тем воспринимает как «высокую священную любовь к человечеству». Легендарный образ Агасфера, который защищает народных героев от коварных иезуитов и утверждает принципы истинно христианского уважения к людям, позволяет Чернышевскому поставить «Вечного жида» «выше» «Парижских тайн» (XIV, 45).
Описания Эженом Сю бедствий французских трудящихся могли в сознании Чернышевского легко ассоциироваться с наблюдаемыми им картинами жизни русского закрепощённого и обездоленного народа, и рекомендуемые французским романистом способы борьбы со злом находили в религиозном юноше сочувственный отклик и поддержку. Так или иначе, социальные проблемы уже приковывали внимание Чернышевского, вызывали на глубокие размышления и поиски решений, которые должны принести людям материальное благополучие, нравственную устойчивость и основанную на христианской любви к ближнему крепость человеческого общежития.
Самостоятельностью суждений, известной независимостью и свободой мысли, выдающимися способностями и обширными познаниями Чернышевский заметно выделялся на фоне семинарских соучеников и саратовских сверстников. Широкий круг чтения, уже в эти годы включавший произведения русской и зарубежной литературы, книги по истории, современные отечественные журналы, наконец, неутомимые занятия восемью языками – всё это в значительной мере подготовило ум Чернышевского к восприятию передовых идей. Уход из семинарии обусловил возможность развития, которое приведёт в университетские годы к пересмотру некоторых из религиозных верований.
Глава третья. Университет
10. На пути в столицу. Первый год в Петербурге
По дороге в Петербург два события (две встречи, два пожелания) произвели глубокое впечатление на юношу. Незадолго до отъезда, 13 мая 1846 г., священник церкви при Саратовской Александровской больнице П. Н. Каракозов «первый, – записывал восторженный Чернышевский на листке для памяти, – пожелал мне именно того, желанием чего исполнена вся душа моя: говоря о поездке близкой моей в Петербург, он сказал: „Дай Бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время поседеем”. Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении». На десятом дне пути он записал ещё об одной встрече – с дьяконом села Баланды Саратовской губернии М. С. Протасовым, который после обычных напутствий сказал: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России», и на замечание Евгении Егоровны, что-де «это уже слишком много, довольно, если и для отца и матери», твёрдо повторил: «Нет, это ещё очень мало; надобно им быть полезным и для всего отечества». «Вот второй человек! – писал Николай Чернышевский, преисполненный высоких чувств. – Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству <…> Я вечно должен их помнить» (I, 562). Мечты о «соделании блага человечеству» сообщали мыслям о собственной славе мощный гуманистический заряд, предохраняющий от мелкого тщеславия, и это ещё раз свидетельствовало о зрелости и продуманности принятого решения посвятить жизнь науке.