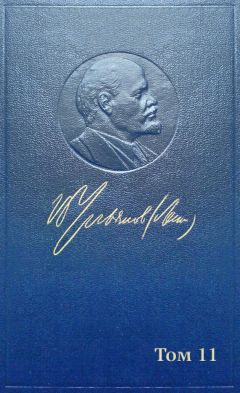Раздался быстрый и громкий звонок колокола — знак собираться в камеры.
Арестанты медленно и нехотя потянулись в мрачное здание.
Солнце садилось, и его последние румяные лучи, бледнея, угасали на неподвижной, задумчивой туче. Быстро смеркалось, и повсюду наступала отрадная тишина весеннего вечера. Легкие звуки долетали отовсюду. Откуда-то издалека доносились в тюрьму веселые голоса и протяжное пение. На небе кое-где вспыхнули маленькие звездочки.
Злобно звеня и потрясая цепями, шли арестанты под мрачные, низкие своды подвального этажа: у них были отняты последние лучи свободы.
Надежды на счастье в жизни давно уже не было.
Впереди была только тюрьма…
Столовая помещалась в катакомбах унылого подземелья. Черные своды смыкались над самой головой и давили душу. Казалось, что они еще хранят мрачные воспоминания о дыбе, пытках и кнуте. Казалось, что эти черные, толстые стены таят в себе крики и стоны, звучавшие здесь когда-то, в давние века.
По небу рассыпались редкие, изумрудные звезды, полная красавица луна взошла над острогом и облила его белые стены трепетным серебристым сиянием. Она, как чародейка, околдовала своими волшебными лучами эту нежную, весеннюю ночь: чары ее обнимают дремотную землю и тихий, серебристый воздух. Всюду таинственно лежат и расползаются мглистые тени, и шепчутся тихие, страстные звуки. Раздражающая ароматная теплота веет в густом воздухе и навевает нежные желания и нежную весеннюю тоску…
Быков по-прежнему сидит на своем камне, прислонив ружье к плечу, не то дремлет, не то думает о чем-то…
На кончике его штыка от лунного света искрится лучистая бриллиантовая звездочка.
А острог поет.
Поют в каждой камере, наверху и внизу, каждая камера — свою песню, и пение всего острога сливается в один общий певучий гул.
Сто-нет он по тюрь-мам и остро-гам…
В рудни-ках, на желе-зной цепи-и, —
глухо и мрачно гудит тягучая песня в нижнем этаже.
А сверху гремит веселый хор:
А наутро старик с больной головой,
Он идет и блюет, и руга-ается…
И р-ру-га-ается!..
Буйно гудят басы.
Но их покрывают из другой камеры:
Друзей теперь мне не на-да-а!
Желе-зны цепи мне дру-зья-а!
Ло-па-та — ве-чная подруга,
А тачка — верна-я жена-а!
С другого конца острога откликаются:
Пройдет зима, настанет лето,
В полях цветочки расцветут,
А мне, несчастному, в то время
Железом ноги закуют.
Придет цирюльник с бритвой острой,
Обреет правый мне висок:
Я буду вид иметь ужасный
От головы до самых ног.
Но из всеобщего гудения выплывает протяжный мотив, полный специально-тюремной тоски:
Там, где море вечно плещет
На песчаные брега…
Медленными, тяжелыми волнами льется эта песня о Сахалине, где вечно звенят море и цепи…
Спит там правда, спят законы,
Спят давно уже, давно…
И на все людские стоны
Плещет море лишь одно…
Тюрьма поет свои страдания, клянет свою судьбу, прощается с родиной и любовью, ненавидит своих тюремщиков и воспевает бродячую жизнь. И это пение преступной, «несчастной» и бродячей Руси сливается в один глубокий и мрачный стон.
Быков сидит на камне и порой взглядывает на узенькое окно круглой башни, куда посадили скованного Самсона. Он понравился Быкову своей силой: камень, так легко брошенный в ворота, Быков пробовал поднять — и не мог. Он прислушивается, как силач по временам начинает бить в железную дверь башни.
— Ироды! Христопродавцы! — глухо доносится оттуда. — Я все башни размечу, все ваши пташки-кинарейки разлетятся! Накануне святой троицы! А? Дьяволы! Я вам покажу кинареек!..
И Быкову слышен звон потрясаемых цепей.
Но вот он видит, как огромные лапы узника охватывают железный переплет решетки: посыпалась известка, железные прутья зашатались, медленно вогнулись в башню и — исчезли.
— Господи! — прошептал Быков, подходя к башне.
— Вот вам и решетка! Вот вам ваши поганые кандалы!..
В окно к ногам Быкова упала согнутая вдвое решетка и сломанные наручники.
— Размечу! — грохотало из башни. — Всю печку вам разворочаю! Господи! И для чего ты мне дал такую силу? Неужто для того, чтобы век в тюрьме сидеть?
Никто не отвечал ему.
Тюрьма пела…
I
Мне вспоминается внутренность деревенского кабака: маленькие окна, бревенчатые стены, грязные сосновые столы и скамьи. За столами сидят мужики и пьют водку большими шкаликами из толстого зеленого стекла. Высокая стойка отгораживает полки с бутылками и огромную, тридцативедерную бочку с водкой. Около нее на стене висят разного калибра «мерки» — медные ковши, и кабатчик цедит в них из огромного крана бочки пахучую синеватую водку.
Кабак галдит; дверь, обитая рогожей, с кирпичом на веревке блока, постоянно отворяется и хлопает, в нее врываются клубы морозного воздуха, образуя белое облако; оно редеет, и тогда в нем видны огромные фигуры, закутанные в тулупы и чапаны, с бараньими шапками на головах, с большими обледенелыми бородами.
Фигуры хлопают огромными рукавицами, снимают их и заскорузлой рукой стаскивают шапки, обнажая потные лысины; от лысин к потолку поднимается пар…
Ледяные сосульки, отдираемые с длинных усов и бород корявыми пальцами, тают. Слышатся кряканье и приветствия кабатчику.
— Гавриле Петровичу! Хромому! Сто лет жить!
— И вам сто лет жить да двести на карачках ползать! — звучно отвечает кабатчик.
— Хо-хо-хо! — покатывается весь кабак. — Уж он скажет так скажет. В карман за словом не полезет, деревянная нога!
Кабатчик — сиделец от богача-хозяина, владельца почти всех кабаков уезда — мой отец.
Он стоит за стойкой, облокотясь на нее большими, тяжелыми руками, и небрежно кидает мужикам складные прибаутки, поговорки и меткие слова.
Наружность его необыкновенно симпатична.
Он — худой, среднего роста, хорошо сложен, вид у него бравый. Лицо — энергичное, характерное, с резкими, сухими чертами — напоминает кардинала Ришелье; нос с горбиной, на щеках бороды нет, и только на подбородке эспаньолка, правильная в виде лопаточки. Лицо смуглое, веселое и смелое, очень живое и выразительное. Волосы длинные, русые, закинутые назад, вьются крупными кудрями.
Левая нога у него отрезана немного ниже колена, и он ходит на деревяшке, в широких брюках навыпуск. Одетый в длинный пиджак старинного покроя, он быстро поворачивается за стойкой и очень ловко владеет своей деревяшкой.