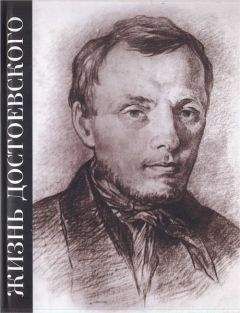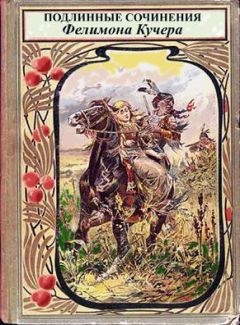Михаил уныло вздыхал, глядя на детей:
— Как тут рисковать?..
Лето минуло быстро. И вот уже снова гудит под ногами пароходная палуба, мерно врезаются в воду лопасти огромного колеса. Вспоминаются печальные глаза Михаила, розовый чепчик Эмилии Федоровны, насупленное личико Федора Михайловича-младшего. Бесконечно тянется время в сырой каюте и на палубе под ветром и дождем. И наконец из серых вод поднимается знакомый силуэт Кронштадта.
На городской окраине. Акварель Ф. Баганца. 50-е годы XIX в.Приехав в Петербург, прямо с пристани Достоевский отправился к Константину Трутовскому, у него и остановился на первых порах. Отдохнув с дороги, стал подыскивать квартиру. В этом году, до поездки в Ревель, успел сменить уже две квартиры. Григорович еще ранней весной уехал в имение к матери. Оставаться одному в трех комнатах было накладно. Достоевский снял сперва две меблированные комнаты «от жильцов» в доме купца Кучина на углу Кузнечного переулка и Гребецкой, затем жил в Кирпичном переулке между Малой и Большой Морскими улицами. Квартиры непременно снимал в угловых домах. Такая была фантазия. И теперь тоже присмотрел две маленькие, но хорошо обставленные комнаты в доме Кохендорфа на углу Большой Мещанской и Соборной площади — против Казанского собора. Торговаться не стал, сразу согласился с назначенной хозяином ценой — четырнадцать рублей серебром в месяц. Тотчас послал свой новый адрес Михаилу и просил поскорее написать: такая грусть на сердце! В сырой мгле грядущей осени ему виделись изнурительная работа, одиночество, тоска, болезни…
«Петербург — ад для меня. Так тяжело, так тяжело жить здесь! А здоровье мое, слышно, хуже. К тому же я страшно боюсь. Что-то скажет, например, октябрь — до сих пор дни ясные… Я теперь почти в паническом страхе за здоровье. Сердцебиение у меня ужасное, как в первое время болезни».
Если бы вырваться, уехать хоть на полгода в теплые края, к южному морю и там, в благодатном климате, по-настоящему поправить здоровье!.. Ведь недаром врачи в один голос твердят: «Поезжайте на юг, поезжайте в Италию…» Но как уехать?.. Впрочем, если бы удалось подороже сбыть книгопродавцам право на отдельное издание двух первых романов и двух новых повестей, денег на поездку, пожалуй, стало бы.
Краевский по его просьбе переговорил с издателями — купцами Ратьковым и Кувшинниковым. Те предложили за все рукописи 4000. Долгов нужно было уплатить 1600 рублей, следовательно, оставалось 2400. «Я обо всем расспрашивал: проезд стоит 500 (крайнее). Да в Вене я сделаю платья и белья на 300 рублей, там дешево, всего 800; останется, стало быть, 1600».
В голове его сложился великолепный и заманчивый план. Он проживет в Италии восемь месяцев. Разумеется, будет там не гулять, а работать. «В Италии, на досуге, на свободе хочу писать роман…» Печатать его станет в «Современнике» Некрасова. С нового, 1847 года журнал «Современник» будут издавать Некрасов с Панаевым, а главным критиком у них Белинский. Отослав в «Современник» первую часть романа и получив за нее тысячу двести рублей, он на два месяца съездит из Рима в Париж. Вернувшись в Россию, напечатает вторую часть романа.
Ему уже виделось полуденное небо Кампаньи, шумные Елисейские поля. «Мы, брат, долго теперь не увидимся. Но по приезде из-за границы прямо заеду к тебе, где бы ты ни был. К 20 октября — время окончания сырого материала, т. е. Сбритых бакенбард — мое положение означится наияснейшим образом…»
И действительно, положение его вскоре совершенно прояснилось, но только совсем иначе, чем он предполагал.
В середине октября вышел номер «Отечественных записок» с «Господином Прохарчиным». Достоевский настороженно ждал отзыва Белинского. В глубине души надеялся, что тот останется доволен. Но, увы, в отзыве явно сквозили разочарование и досада.
— В вашем «Прохарчине», — говорил Белинский, — сверкают яркие искры большого таланта. Но сверкают они в такой густой темноте, что их свет ничего не дает рассмотреть читателю. Повесть походит более на рассказ о каком-то истинном, но странном и запутанном происшествии, чем на поэтическое создание.
Вот как обернулось дело с «Прохарчиным»…
Федор Михайлович много думал об отзыве Белинского. Значит, другие — и даже Белинский — не видят в его созданиях того, что видит он сам. Ему казалось, что предпринятое им исследование характера господина Прохарчина обнаруживает те крайние пределы, те Геркулесовы столпы духовного убожества, до которых доводит человека совершенное подчинение власти денег. Разве мало поэзии в его мысли представить в образе господина Прохарчина весь современный мир, поклоняющийся денежному мешку? Нет, все дело, конечно, в том, что Прохарчин обрисован не довольно подробно, решительно и смело. Надо отбросить всякую робость, ни на кого не оглядываясь, высказаться полно и свободно, довериться своему вдохновению — и тогда глубокие мысли, таящиеся в душе его, откроются всем, и прежде всего — Белинскому.
Недавние радужные планы пришлось перечеркнуть одним махом.
«…Все мои планы рухнули и уничтожились сами собою. Издание не состоится. Ибо не состоялось ни одной из тех повестей, о которых я тебе говорил. Я не пишу и „Сбритых бакенбард“. Я все бросил; ибо все это есть ничто иное, как повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. Когда я дописал „Сбритые бакенбарды“ до конца, все это представилось мне само собою. В моем положении однообразие гибель. Я пишу другую повесть, и работа идет как некогда в „Бедных людях“ свежо, легко и успешно».
Камни Вечного города, зеленые холмы Монмартра остались где-то в недоступной дали. А перед ним на столе лежал только что начатый роман «Неточна Незванова», первую часть которого он обязался представить Краевскому через десять недель, к 5 января 1847 года.
«Так велики благодеяния ассоциации!»
Осенью, вскоре после возвращения из Ревеля, Достоевский писал Михаилу: «Я обедаю в складчине. У Бекетовых собралось шесть человек знакомых, в том числе я и Григорович. Каждый дает 15 коп. серебром в день, и мы имеем хороших чистых кушаний за обедом два и довольны».
Речь шла о братьях Бекетовых. Старший — Алексей — был тот самый Бекетов, с которым Достоевский дружил еще в училище. Второй — Николай — учился на естественном факультете Петербургского университета.
Добрые, умные, гостеприимные братья Бекетовы влекли к себе людей. Тянуло к ним и Достоевского. Иной раз, придя к Бекетовым обедать, Федор Михайлович оставался у них до вечера, когда дом наполнялся молодежью. Завсегдатаями были молодой поэт Плещеев, доктор Яновский, студент Ханыков и многие другие. Порою в небольшой квартире собиралось человек десять, а то и пятнадцать. Кому не хватало места на стульях и на диване, сидели прямо на полу, на ковре. Густой табачный дым полосами плавал в воздухе. Разговор шел то вполголоса по углам, то становился общим, и тогда вниманием присутствующих завладевал изящно одетый юноша, чьи усы и пышные бакенбарды не столько скрывали, сколько подчеркивали его молодость. Он говорил негромко, но уверенный, а порою и страстный тон его суждений заставлял прислушиваться. Нетрудно было заметить, что товарищи поглядывали на него уважительно, безусловно признавая его авторитет и права наставника.