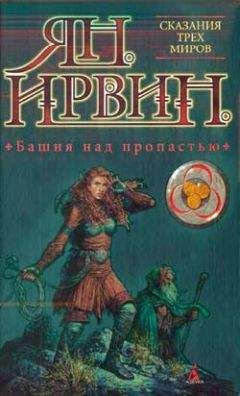давно переставшее быть запретным, во всяком случае, киноактеры смело используют его, признаваясь в том, как им приходится играть на экране любовную страсть и смятение.
Сегодня мне так и хочется улыбнуться при этом воспоминании, но Больм – царь Додон и я – Шемаханская царица – бросались друг к другу с неподдельной пылкостью. Мы прижимались друг к другу так тесно, словно любовники, которых хотят разлучить. Мы не могли отвести глаз, и наши взгляды проникали глубоко друг в друга. Сплетались пальцы наших рук. Запах кожи моего партнера опьянял меня, и, начиная пируэт, я изо всех сил напрягалась, чтобы колени не подогнулись и ноги удержали меня до конца. У Больма дрожали губы, пылким дыханием он буквально обжигал мне щеки, но ни разу он не позволил себе прикоснуться губами ни к моим плечам, ни к вискам, ни ко рту. Преграды стыдливости, невозможность переступить за известные пределы увлекали нас до самых крайностей наших драматических способностей. Я снова ощущала то же, что пережила однажды с Козловым, – но куда более захватывающее и уже без того чувства вины, которое до такой степени парализовало меня, когда я была еще подростком. Если я написала в «Моей жизни», что в «Золотом петушке» «я почувствовала себя словно вознесенной на гребень высокой волны», то это – благодаря Больму и его плотской, безмолвной силе (мы с ним никогда не заговаривали об «этом»), неукротимой мощи, притягивавшей наши тела словно магнитом. Танцуя в паре с ним, я забывала все свои несчастья, словно плыла на пьяном корабле.
Физическое притяжение между мною и Больмом было видимым, ощутимым. Не так заметно было напряжение, необходимое, чтобы обуздать эту энергию и не допустить ее торжества над техничностью исполнения; иными словами, несмотря на обуревавшие нас эмоции, нам нельзя было промахнуться в прыжке или повороте! Фокин всегда учил, что танец, в отличие от простой гимнастики, должен выражать чувства. Но ведь и для того, чтобы сохранить абсолютное владение механикой собственного тела, нужна точность гимнаста.
Я никогда не противопоставляла друг другу двух величайших русских мэтров – Станиславского и Мейерхольда – в их подходах к театральному искусству. Первый утверждает, что для совершенного изображения на сцене, например, чувства радости, актер должен внутренне мобилизовать собственные счастливые воспоминания. Второй же, напротив, уверял, что, изобразив на лице счастливое выражение, хороший актер автоматически его же и почувствует. Лично я инстинктивно использовала и тот и другой метод. Понимание я скорей могла бы найти у Дидро. В трактате «Парадокс об актере» он объясняет, что превосходный актер – не тот, кто всецело отождествляет себя с ролью, а тот, кто, весь отдаваясь ей, умеет и соблюсти дистанцию, чтобы контролировать собственную игру. Секрет кроется в сложном равновесии между выставлением напоказ (и ликованием от этого) самого себя и самоконтролем.
Танцуя с Больмом, мне нередко случалось едва не поддаться опасному влечению. Но за долю мгновения до исполнения сложных па или серии поворотов, требовавших моего хладнокровия, я спохватывалась, концентрировалась… чтобы лучше предаться чувству в томной, почти самозабвенной позе влюбленной женщины, когда па было позади. Такое лавирование между моим «я» и моим искусством было одновременно изнурительным и возбуждающим.
Больм оказывал на меня столь магнетическое влияние, что я вопреки своему желанию искала с ним встреч, и даже дошла до чувства, пока еще мне незнакомого, – до ревности. Работая в «Русских балетах», он несколько раз сопровождал Павлову в ее турне, и мне была невыносима сама мысль об этом. Слава богу, что наши пути разошлись, однако они сошлись еще раз при лучших обстоятельствах… Танец полностью удовлетворял наше возбуждение, и мы никогда не «переходили к действиям». То, что в жизни было для нас запретным, сублимировалось и переживалось на сцене. Искусство давало нам то, в чем отказывало общество. Я и представить не могла, что пройдет немного времени, и… но я вернусь к этому позже.
Карьера Больма совершила крутой вираж из-за дурацкой случайности в 1917 году. Он выступал в турне в Соединенных Штатах. В программе был балет «Тамар», где ему предстояло сыграть очень эффектное падение. В вечер премьеры матрас, предусмотренный для смягчения удара, невидимый для глаз публики, забыли положить. Больм избежал худшего – он мог сломать себе позвоночник, – но получил тяжелую травму и долгие месяцы пролежал в больнице. Этот случай и определил его судьбу: он остался в Америке.
Сколько же бывших участников «Русских балетов» окончили там свои дни и оставили след: Фокин, Козлов, Мордкин, Маврин, Владимиров, Баланчин, Романов, Бронислава Нижинская… но первым был Больм. Это он, став американским гражданином еще в 1917-м, выбрал Нью-Йорк для нового взлета карьеры и открыл путь другим. Основав собственную компанию, он организовал серию турне, призванных открыть искусство танца «американской глубинке» Среднего Запада.
По примеру Козлова, сделавшего то ж самое в Лос-Анджелесе, Больм внедрил классическую строгость школы Петипа в Нью-Йорке, а затем в Чикаго и на Западном побережье, где в 1933 году основал Балет Сан-Франциско. Даже больше того – американский модерн-балет, сегодня как никогда живой, обязан своим возникновением именно ему. Идея объединения кинематографа с танцем, в первые годы «Русских балетов» отвергнутая Дягилевым, с Больмом снова обрела будущность – ибо в 1929 году он вместе с американской балериной Рут Пейдж создал первый заснятый на кинопленку балет, синхронизированный с оркестровой музыкой, – «Пляску смерти» по Сен-Сансу.
Как и Козлов, как и Павлова, в 1915 году сыгравшая в кино «Немую из Портичи», как Екатерина Галанта, снявшаяся в «Падении Романовых», как Лидия Лопухова, появляющаяся в «Темно-красных розах» Синклера Хилла – первом британском звуковом фильме, как Вера Каралли, которая сделала настоящую карьеру актрисы, сыграв в двух десятках полнометражных лент, Больм был привлечен Голливудом и справился с хореографией многих произведений. Что касается меня – то еще до «Путей силы и красоты», оставивших, похоже, неизгладимые воспоминания у Людвига («влюбленного в меня», как говорит Эмильенна), я сыграла маленькую роль в «Сказке старых жен» – фильме 1921 года по роману Арнольда Беннетта, которому в годы моей лондонской жизни суждено будет стать одним из моих самых лучших друзей. Обе эти пробы не имели никакого продолжения.
Для Больма же самыми удачными творениями, на мой взгляд, остаются его хореографические постановки для сцены. Его «Аполлон Мусагет», созданный за год до того, как балет на тот же сюжет поставил Баланчин, получился великолепным, и мне от души жаль, что эта версия, презираемая Дягилевым, похоже, совсем забылась.
Его шедевр? «Дух завода». Мне посчастливилось увидеть этот авангардистский спектакль, который сам Больм называл «кинематическим балетом». Представьте на сцене шестьдесят одинаковых танцоров, все в костюмах из металла, двигающихся, задевая друг друга, походками роботов. «Минималистская» музыка, написанная советским композитором