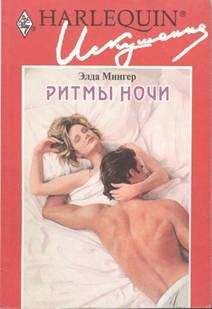— Да-а, — проговорил кто-то за моим плечом, — хорошо поет Королева. Только вот хрипит — Это зря…
— Ну, не скажи, — возразил Солома. — В этом тоже свой смак имеется. Вся заграница так хрипит. Весь Запад.
— Какая еще заграница? — прищурился Казак. — Откуда ты ее выдумал? Ох, любишь ты, Солома, треп разводить!
— Постой, постой, — сказал Солома. — Поч-чему — треп? Я говорю, как человек искусства, — он поднял палец. — Как старый онанист и ценитель Есенина!
Пока шел этот разговор, Гундосый исчез куда-то и вскоре явился, нагруженный свертками и бутылками, водрузил все на стол и потянул меня за рукав:
— Садись, Чума! Выпьем за все хорошее…
Когда мы приняли по первой порции, Солома поворотился ко мне и медленно спросил, крутя в пальцах стакан:
— Чем промышляешь, малыш?
— Да по-разному, — замялся я.
— С кем партнируешь?
— С Хуторянином и с Кинто.
— Ага, — сказал он одобрительно, — эти годятся. В люди выходят, правила чтут… Что ж, малыш, желаю удачи!
Потом к столу подошла Марго — черноволосая, с мощной, туго обтянутой грудью, уселась подле меня, закинула ногу на ногу, сцепила пальцы на поднятом, заголенном колене.
— Что-то я, мальчики, усталая нынче, — сказала она, потягиваясь всем своим крупным телом. — Хотя, конечно… Вторые сутки глаз не смыкаю…
— Много работаешь, — ухмыльнулся Гундосый.
— Да уж, известное дело, — равнодушно ответила Королева, — немало. А как же иначе?
И, подрожав ресницами, обведя взглядом стол, она легонько толкнула меня локтем:
— Налей-ка водочки, кучерявый.
От выпитого, от усталости, от всех треволнений безумного этого дня меня как-то быстро сморило. Безмерная сонливость овладела мною. Навалясь на край стола, я опустил голову и задремал незаметно.
Какое-то время еще слышался топот, звон посуды, гул голосов. Изредка — и словно бы издалека — просачивались сквозь шум невнятные фразы:
„В Тбилиси, ребята, дело тухлое“.
„Я как старый онанист и ценитель Есенина…“
„Ты с чего это хрипишь, Марго? С перепоя или от сифилюги?“
Потом все спуталось, слилось, подернулось вязкою пеленою.
Последнее, что мне запомнилось, было круглое, облитое загаром колено Марго, раскачивающееся в двух сантиметрах от моего лица.
* * *
Так я вошел в блатное общество!
Приняли меня здесь вполне благосклонно (сын босяка — это красиво!) и с ходу зачислили в разряд „пацанов“ — так на жаргоне именуется молодежь, еще не обретшая мастерства и не достигшая подобающего положения.
По сути дела „пацан“ — то же самое, что и комсомолец. Перейти из этой категории в другую, высшую, не так-то просто. Необходимо иметь определенный стаж, незапятнанную репутацию, а также рекомендации от взрослых урок.
Процедура „возведения в закон“ ничем почти не отличается от стандартных правил приема в партию… Происходит это, как водится, на общем собрании (толковище). Представший перед обществом „пацан“ рассказывает вкратце свою биографию, перечисляет всевозможные дела и подвиги, причем каждое из этих дел подвергается коллективному обсуждению. И если блатные сходятся в оценке и оценка эта положительна, поднимается кто-нибудь из авторитетных урок, из членов ЦК и завершает толковище ритуальной фразой:
— Смотрите, урки, хорошо смотрите! Помните — приговор обжалованию не подлежит.
Впоследствии это произошло и со мной (на Кавказе, в городе Грозном — среди местных майданников). Однако прежде чем я стал законным уголовником, мне пришлось немало поколесить по югу страны…
Самой важной для меня проблемой в ту пору был выбор ремесла, выбор должной профессии.
Блатных профессий, в принципе, множество — им несть числа. Но если попробовать все же классифицировать их, нетрудно выделить из общей массы три самых основных вида краж: квартирную, карманную и железнодорожную. В классический этот перечень входит также взлом сейфов и касс.
Начал я, как вам уже известно, с карманной кражи. И потому она стоит в моем списке первой.
Да и вообще, по воровским понятиям, дело это — не из последних, отнюдь нет. Непросвещенные простачки считают карманное ремесло пустячным и незначительным; они исходят здесь из конечного результата… Результат в каждом отдельном случае действительно невелик. Тем не менее в блатной среде ценится не столько этот результат, сколько само искусство.
Карманники — по сути дела — блатная богема! Зарабатывают они не шибко много, зато их деятельность (в отличие от всякой иной) требует особой сноровки, редкостной изощренности и поистине артистического чутья.
Пошатавшись по ростовским малинам, я узнал немало талантливых ширмачей. Название это, как считают многие, происходит от слова „ширма“. Дело в том, что залезать в чужой карман без прикрытия, без ширмы, невозможно, слишком рискованно. Карманник ведь орудует средь бела дня, на глазах у людей.
Таким защитным прикрытием может служить, в принципе, что угодно: фуражка, платок, газетный лист. Некоторые, правда, обходятся безо всяких этих атрибутов, работают, заслоняя одну руку другой. Но как бы то ни было, ширма необходима любому!
Нахичеванский карманник Козел пользовался, например, журналом „Коммунист“, причем складывал и держал его таким образом, чтобы виден был заголовок. В строгом полувоенном защитного цвета кителе, в квадратных очках (с простыми оконными стеклами) и со свежим номером журнала в руках Козел производил на публику довольно внушительное впечатление. Всем своим обликом он напоминал секретаря райкома партии и в итоге действовал на редкость успешно.
Промышлял он, в основном, в магазинах и кинотеатрах; „рабочий час“ его был, таким образом, поздний.
Зато те, кто связан был с трамваями, автобусами или метро, выезжали на дело по утрам, спозаранку, и затем — на исходе дня.
Среди вагонных ширмачей были, между прочим, три воровки — Мымра, Шушера и просто Варька. Они ездили вместе. Работа их отличалась некоторым своеобразием. Традиционную „ширму“ заменяла здесь грандиозная Варькина задница.
Наметив в трамвайной толкучке подходящего фрайера (как правило, солидного, в возрасте, но не слишком старого!), Варька подступала к нему вплотную, поворачивалась тылом и начинала активно прижиматься к нему, тереться… Так она трудилась до тех пор, покуда жертва ее не ослабевала окончательно и не впадала в беспамятство.
Тем временем Мымра и Шушера — обе тощие, жилистые, шустрые, как мыши, — деловито и тщательно обшаривали карманы ошалевшего пассажира.