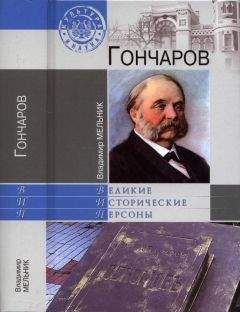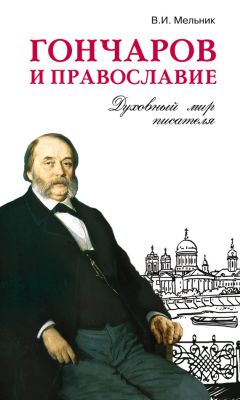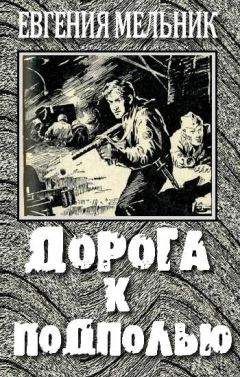Гончаров в своих романах как раз и ищет, чем возместить современному человечеству утраченную веру в мистическое, чудесное. Он ищет свой мостик, соединяющий христианство и цивилизацию, ищет не только во всех трёх своих романах, но и во «Фрегате «Паллада»», и в статье о картине Крамского, изображающей Христа в пустыне, и в статьях о Гамлете и о мильоне терзаний Чацкого…
Но вернёмся к роману. Недаром старшего Адуева зовут Петр, что в переводе с греческого означает «камень». Образ Петра Адуева как бы слит с каменным Петербургом, со статуей Медного всадника, с петербургской деловитой холодностью. Через имя «Петр» романист возводит ассоциативный ряд к самому основателю этого города — Петру Великому. Петр велик в одном и слаб в другом. Историческая раздвоенность образа Петра Великого помогает осознать и авторскую оценку образа Петра Адуева. Соединяя образ Петра и образ «камня» в изображении каменного Петербурга, Гончаров по-своему возвращал читателя к словам Христа: «И Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф., 7:24). Такова ассоциация, связанная с фактом построения города на Неве, круто изменившего исторические судьбы России и повернувшего ее лицом к цивилизации и просвещению. Однако в этом процессе (как и в поведении Петра Адуева) есть и другая сторона. В финале романа мы обнаруживаем ассоциативную связь с другим евангельским упоминанием: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф., 7: 24–27). «Цивилизатор» Петр Адуев «слушал и не исполнял» слов Христа, имея каменное сердце, рассчитывая на себя и своей собственной мерой измеряя то, что принадлежало и было подвластно только Христу, — человеческое сердце. Вот почему в финале он переживает «падение великое». Великое падение переживает и его племянник, отрекшийся от «младенческой веры», от серьезных задач жизни. Это изображение первого «обрыва» в гончаровском творчестве. Есть в имени Петра Адуева и иная новозаветная ассоциация. Племянник, нуждающийся в исключительной духовной поддержке дяди, получает от него весьма своеобразную «помощь», сводящуюся к тому, что дядя старается поскорее «развить», «отрезвить» Александра от «младенческой веры в чудесное». Вместо реальной духовной поддержки Петр Иванович дает Александру лишь отрезвление от идеалов, не исправляя его плохого воспитания, не исцеляя его духовные немощи, а лишь меняя одни на другие — с противоположным знаком. Дядя в данном случае относится к редким исключениям, в основе которых — снова образ камня: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Мф., 7: 9).
Гончаров, как религиозно мыслящий художник, тем не менее, ни в коем случае не отрицает науку. В его библиотеке недаром значительное место занимали труды современных светил и популяризаторов естественных наук: Ч. Дарвина, Д. Арго, Д. Тиндаля, Л. Фигье, К. Фламмариона и других Первый герой-«позитивист» в русской литературе Петр Адуев изображается им с определенной симпатией, хотя адуевские сравнения человека с машиной, а психических процессов с механическими могут шокировать. Так, герой говорит, что любовь — это «действие электричества; влюбленные — все равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем — прости, любовь, следует охлаждение». Петр Адуев объясняет своему племяннику, что разум — это «клапан», который природа дала человеку для управления чувством. Он часто обращается к Александру со словами: «закрой клапан», «выпусти пар».
Любопытно, что такое приравнивание психических процессов к механическим не слишком смущает самого автора. Во всяком случае, в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 августа 1860 года он сам буквально и без всякой иронии воспроизводит весь «позитивистский» дух речей своего героя: «… Припадки жизненной лихорадки… это своего рода пар, который требует не того, чтоб выбрасывали его беспорядочно или задыхались от него, а чтоб применяли его к делу, к рельсам и колесам, пользовались им и садились читать, писать или делали что кому назначено».[151]
Деятельная направленность психической жизни человека — вот чего ищет Гончаров и вот что находит родственного и здорового в позитивизме. Сравнение человека с паровозом обнаруживает, что писатель (в отличие, например, от Достоевского) признает за позитивизмом определенные права — в рамках цивилизаторской философии «преобразующей деятельности». Научный дух познания, направленного на преобразующую деятельность человека и человечества, оказывается тем здоровым зерном в позитивистской философии, которую автор «Обрыва» вполне приемлет.
Но Гончаров всегда и во всем ставит вопрос о мере вещей. Позитивизм хорош для него лишь до той границы, за которой начинается разрушение равновесия между «умом» и «чувством», «наукой» и «религией». А начинается для него эта граница там, где философию позитивизма берут на вооружение не созидатели-цивилизаторы, а «разрушители-нигилисты». Позитивизм был течением весьма широким, захватывавшим в сферу своего воздействия разнородные силы. Основоположником этого учения, народившегося в 30-х годах XIX века, считается Огюст Конт. Главные представители его — Дж. С. Милль, Г. Спенсер, Г. Бокль, Э. Литтре, Э. Ж. Ренан, а в России — В. Н. Лесевич, М. М. Троицкий, В. Н. Ивановский, П. Л. Лавров, К. К. Михайловский и другие.[152] Влияние позитивистских идей испытали Т. Н. Грановский,
И. М. Сеченов, А. М. Бутлеров, Д. И. Менделеев,[153] М. А. Бакунин[154] и другие. Со многими трудами позитивистов Гончаров был знаком как цензор.
Писатель признавал роль позитивизма в развитии естествознания, науки, но при этом активно протестовал против попыток позитивистов привнести естественно-научные методы в учение о нравственности, в понимание человеческой природы и природы общественной жизни. Особенно его возмущало отрицание самой категории «идеального», понятия «души».[155] В работе вульгарного материалиста А. Бюхнера «Сила и материя» сказано: «Надо поставить науку на место религии, веру в естественный и ненарушимый миропорядок на место веры в духов и призраки, естественную мораль на место искусственной и догматической».[156] В эти годы некоторые церковные публицисты с сожалением отмечали, что наука и религия нигде так не отчуждены друг от друга, как в России.[157] Гончаров прекрасно видел опасность, которая грозила русскому обществу из-за резкого разрыва в сознании «передовых» людей между Евангелием и наукой. Он неоднократно высказывался по этому поводу, неизменно подчёркивая, что пути науки и религии «параллельны и бесконечны».