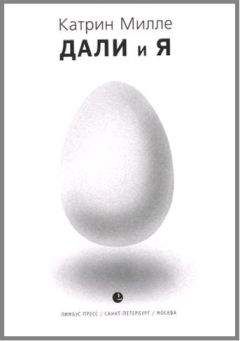Как и все физические характеристики, которые дает Дали людям, описание Рене Кревеля отличается беспощадным синкретизмом, правда, окрашенным нежностью. «Внешне он был похож на эмбрион, вернее сказать, на побег папоротника… Вы, несомненно, уже обращали внимание, какое у него насупленное, как у падшего ангела, лицо, по-бетховенски глухое, ну прямо завиток папоротника! Если вы еще не обратили на это внимание, то задумайтесь и будете иметь точное представление о том, что напоминает вытянутое, как у недоразвитого, болезненного ребенка, лицо нашего дорогого Рене Кревеля» (ДГ. 136). Конечно, судьба поэта была предопределена его именем: «Кревеля звали Rene/Рене, что, вполне вероятно, происходит от причастия прошедшего времени глагола renaitre (возрождаться, воскресать). Но в то же время он сохранил свою настоящую фамилию Кревель (Crevel), которая как бы подразумевает действие, определяемое глаголом crever — „подыхать“, „умирать“ или, как сказали бы философы, мало-мальски подкованные в филологии, „витально неодолимое стремление к смерти“». Но сходство с эмбрионом на время уберегло его. «Фениксология дарует нам, живущим, великую возможность обрести бессмертие в течение нашей земной жизни, и все благодаря скрытой способности, помогающей вернуться в эмбриональное состояние и получить возможность вечно возрождаться из собственного пепла, в точности как Феникс…» Поскольку вся жизнь Кревеля была чередованием лечения в санаториях и периодов интенсивной литературной и политической деятельности, «никто так часто не „умирал“ и так часто не „воскресал“, как наш Рене Кревель» (ДГ).
Событие, предшествовавшее рождению Дали, если не предопределило, то по меньшей мере создало предпосылки для этих фениксологических наблюдений. Старший брат художника, родившийся в 1901 году, умер за девять месяцев до его появления на свет. Родители Дали в том же неизбывном горе, что и родители Винсента Ван Гога, назвали новорожденного именем брата. Дали несколько отступает от фактов, утверждая в «Тайной жизни», что его брат скончался за три года до его рождения в возрасте семи лет. Это отступление от хронологии маскирует то, что краткий временной разрыв между смертью старшего и рождением младшего определялся стремлением родителей создать замену умершему ребенку. Дали, когда ему было уже под семьдесят, все еще злился на отца: «Когда он смотрел на меня, то взгляд его столь же был обращен на моего двойника, сколь и на меня. Он воспринимал меня как полчеловека, как лишнее существо. Моя душа съеживалась от страдания и гнева под лучом этого лазера, непрестанно копавшегося в ней в поисках того, другого, кого более не существовало» (CDD). Как в подобных условиях отказаться от того, чтобы быть всего лишь двойником и «отвоевать себе право на жизнь» (CDD)? Разумеется, отрицая то, что был рожден как замена брату; акцентированный биографизм творчества Дали направлен на личное самоутверждение. И это происходит в опровержение естественного порядка вещей. «Мало-помалу Моисей (Дали вначале сравнивал отца с Моисеем. — КМ.) освободился от своей бороды, а Юпитер от молний. Остался лишь Вильгельм Телль: человек, успех которого зависел от героизма и стоицизма его сына» (CDD). Сын порождает отца. Следует признать, что если Сальвадор Дали Куси (отец) все еще существует для нас, то лишь потому, что Сальвадор Фелипе Хасинто Дали Доменеч (сын) оживляет его черты в портретах отца (которому придано сходство не только с Вильгельмом Теллем).
Ребенком Сальвадор Дали выбирал самые неожиданные места в доме (ковер в гостиной, ящик для обуви…), чтобы справлять там нужду, сводя с ума домашних, всем семейством пускавшихся на поиски экскрементов. Интересно, знай Эренцвейг об этой «кака-церемонии», истолковал бы он ее как продление стадии свободной анальной диссеминации, первой анальной стадии? Что, если бы он попытался, рассматривая творчество как нечто большее, чем биографическая реконструкция, обратиться к еще более примитивным стадиям развития ребенка? Автор пишет: «На анальном уровне Белая Богиня соединяет в себе власть обоих родителей. Ее агрессия усиливается, и угроза кастрации уступает место угрозе смерти. <…> В конце концов, божественный ребенок впитывает созидательную мощь родителей. Он сливается с чревом матери; в едином акте он вынашивает, исторгает и хоронит себя самого, — маниакально-океанический образ, с трудом визуализируемый в фазе крайней недифференцированности». Похоже, Дали является образцовым примером, иллюстрирующим теорию Эренцвейга. Дали, сумевший превозмочь угрозу кастрации и смерти, воплощаемую в его глазах самкой богомола; Дали, провозгласивший: «Сальвадор Дали был сотворен в чреве, сотворенном Сальвадором Дали. Я есмь одновременно отец, мать и я сам, и быть может еще отчасти божество» (CDD); Дали, который нравился себе настолько, что именовал себя «Божественным Дали». И наконец, Дали, творивший двойные образы, чья высшая недифференцированность делает границы между ними почти невидимыми.
Немало иных далианских тем можно рассмотреть в предложенном Эренцвейгом ракурсе. Например, сон, а также ослабление сознания в момент перед засыпанием благоприятствуют наступлению стадии дедифференциации. Эренцвейг уточняет: «Когда частичное обездвиживание, затрагивающее рациональное мышление, ощущается как саморазрушение и даже как смерть, тогда и грезы могут обретать характер самодеструкции». Дали пишет: «Сон это разновидность смерти, или, по меньшей мере, смерть по отношению к реальности, или лучше сказать смерть реальности, но реальность умирает в любви как в грезе. Кровавый осмос грезы и любви полностью вбирает жизнь человека» («Любовь»), Значение слова «осмос» не слишком удалено от «дедифференциации».
Грезы на грани сна и пробуждения Эренцвейг называет «сумеречными». Сумерки, обволакивающие контуры реальных, воображаемых или даже духовных предметов, — это время, отведенное феномену дедифференциации. В новелле «Мечты» самые разрушительные сцены выглядят вполне оправданно, поскольку разворачиваются в обрамлении сумерек или во время сиесты, представляющей еще один момент ослабления власти сознания. Но сумерки — это прежде всего час молитвы «Анжелюс». «Именно с „Анжелюсом“ Милле для меня связаны все сумеречные и предсумеречные воспоминания моего детства, относя их к наиболее бредовым или поэтическим (используя расхожее выражение)… я очень часто покидаю городские улицы, чтобы услышать в полях звуки, издаваемые насекомыми, и погрузиться в утонченные мечты» (МТА). «Дневник юного гения» подтверждает пристрастие автора к вечерним прогулкам.