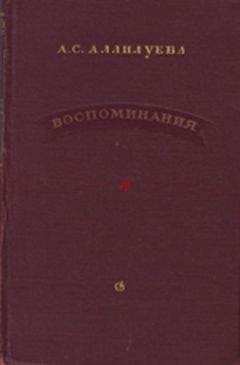Август рассказывал, каким тихим, забитым человеком был покойный. Мы расспрашивали о подробностях его трагической смерти. Стронгин повесился в ночную смену на лестнице, которая вела в цех. Он оставил товарищам записку:
«Я не виновен, но жить опозоренным не могу».
Больше трех месяцев держались рабочие. Второй завод Лесснера, «Старый Лесснер», присоединился к бастующим. Хозяева объявили расчет всем, кто участвовал в стачке. Расчета не брали. За лесснеровцами стояли тысячи питерских рабочих. На всех заводах собирали деньги, чтобы поддержать бастующих.
— Мне-то ничего, — говорил нам Август, — я холостой, вот семейным тяжело.
Да, мы это знали.
«Новый Лесснер» был на Выборгскон стороне, недалеко от Сампсониевского.
Мимо нас к заводу проскакали жандармы, высланные для усмирения рабочих.
Чтобы задержать жандармов, рабочие повалили товарный вагон на железнодорожном пути, пересекавшем дорогу к «Лесснеру». Жены и дети рабочих разворачивали мостовую. Тогда по рукам ходила нелегальная брошюрка с объяснением, как строить баррикады, разрушать мостовые, чтобы затруднить продвижение кавалерии.
К брошюрке была приложена подробная схема.
Нам в руки эта брошюрка пришла из монтерской. Как когда-то дидубийский пустырь в Тифлисе был нашей первой революционной школой, так сейчас Выборгская сторона продолжала наше воспитание.
Откуда бы ни возвращались мы домой, — из гимназии, из кино или с катка, — первыми нас встречали товарищи из дежурной комнаты электропункта — монтерской, как мы называли ее. Дежурные открывали нам дверь, и, поздоровавшись, мы прежде всего спрашивали спокойно ли на линии?
— Аварий нет? — допытывались мы. — Все благополучно? А наши дома?
И дежурные знали о наших делах.
— Ну как? Вызывали? Хорошо ответили? Подсказать успели? — спрашивали они.
Бывало, мы возвращались с запрещенной папой картины. По виноватому нашему виду дежурные догадывались, что мы боимся.
— Ничего, не трусьте… Сейчас он в хорошем настроении, — торопились они сообщить, и мы, воспрянув духом, смело проходили в комнаты.
Мы любили подолгу оставаться в монтерской, где у большого стола посредине сидели дежурные. Не спуская глаз с прибитого у стены электрощита, они записывали все, происходящее в их электрохозяйстве. Мальчики научились обращаться с приборами в монтерской и не раз заменяли дежурных у щита, когда, в дни тяжелых аварий, все монтеры уходили к месту происшествия. Мы с Надей в этих случаях вызывались дежурить у телефона. Нам всегда хотелось услужить друзьям из монтерской.
Многие из них были овеяны героической славой революционеров-подпольщиков.
Со дня, когда папа пришел работать на Выборгский электропункт, монтерская на Сампсониевском стала неписаной явкой питерского и кавказского подполья.
Много людей прошло через монтерскую. Там встречали мы старых близких друзей — Михаила Ивановича Калинина, Василия Андреевича Шелгунова, в монтерской работали Молокоедов, Забелин, Заонегин.
Мы нашли там и новых друзей. Как-то пришел на пункт высокий, чуть сутуловатый человек. Слегка тронутое оспой худощавое его лицо с внимательными глазами и высоким лбом располагало к себе. И в том, как папа и все в монтерской говорили с новым пришельцем, чувствовалось особенное к нему уважение.
Евлампий Дунаев — так звали его. Ткач из Иванова. Там все знали Дунаева.
Когда на иваново-вознесенских фабриках рабочие говорили о тяжелой своей доле, обидах и унижениях, которых не счесть, то с надеждой и признанием называли имя Дунаева. Но власти и начальство, которые тоже хорошо знали Дунаева, с ненавистью произносили его имя. Когда в Иваново-В. озне-сенске толпу безоружных рабочих расстреливали казаки, то, давая команду: «Пли!», полицеймейстер кричал:
«Дунаева мне, Дунаева!»
Своим ровным, спокойным говорком на «о», часто шутливо вставляя: «Да, так-то, царица ты наша небесная!» (в монтерской Дунаева так и прозвали «царица небесная»), Дунаев рассказывал о своем родном городе — русском Манчестере, где в потомственной семье Вознесенских ткачей прошло его голодное детство.
— Да, царица небесная, десять ртов… Когда на ночь все в ряд укладывались спать на полу, то уж не войдешь в каморку.
Мальчишкой Дунаев пошел на фабрику, чтобы, как дед и отец, узнать премудрость ткацкого мастерства, а через несколько лет, в 1897 году, двадцатилетним юношей он был одним из застрельщиков стачки на вознесенских фабриках.
Не легко было раскачать забитых страхом и вечной голодовкой ткачей.
Но, слушая Дунаева, я понимала, что за ним должны были итти рабочие. Он говорил спокойно, без пафоса, с удивительной практической сметливостью, живо, просто. Он как будто проникал и угадывал мысли собеседника. С ним невозможно было не соглашаться.
Когда Дунаева в Питере арестовали и выслали на север, он стал одним из адресатов фонда. Он писал нам из ссылки, коротко и скупо рассказывая о невеселой жизни. Однажды он прислал оттуда карточку. Он снялся вместе с женой и двумя своими ребятишками. Года через два он опять появился в Питере и пришел на Сампсониевский — такой же подвижной, общительный, готовый взяться за дело. Он только еще больше похудел, резче обозначались на его лице провалы щек, и русая бородка его стала как будто реже. В Петербурге жить ему после ссылки нельзя было, но отцу удалось устроить Евлампия Александровича опять к себе на Выборгский пункт, и Дунаев поселился за Лесным в деревне — за чертой столицы.
Вместе с дядей Ваней в этом году из Тифлиса к нам приехала тетя Шура моя подруга дидубийских времен. Шура, которая была на пять лет старше меня, уже не казалась моей ровесницей. Ей исполнилось девятнадцать лет.
Она была веселая, подвижная, с густой белокурой косой, со свежим румянцем, и после ее приезда чаще засиживался у нас друг из монтерской Лазарь Яблонский.
Мы особенно уважали Лазаря за то, что, никогда не посещая никаких учебных заведений, он занимательно и толково объяснял гимназический курс.
Не было такого трудного урока, который Лазарь не помог бы одолеть. И латынь он знал и с Федей вместе любил наизусть произносить звучные тирады римских героев. Лазарь пришел работать на пункт, как и многие, тоже после тюрьмы. Он был арестован в Петрозаводске и присужден к тюремному заключению за принадлежность к социал-демократической партии.
Вызвать Лазаря на разговор было не легко. Обычно, когда в монтерской собирались, он молча прислушивался к спорам и вступал в спор тогда, когда его что-нибудь уж очень сильно заденет. Мы любили слушать его речь. Его бледное строгое лицо оживлялось, глаза вспыхивали, и, увлекаясь, он приводил исторические примеры, вставлял строки из стихов и заставлял себя слушать, зажигая, восхищая нас своим красноречием.