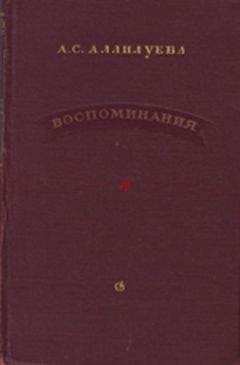— Только я уже не Калинин, — предупреждал он. И опять выручала гостеприимная «ямка».
Помню, Михаил Иванович смешно рассказывал, как, пробродив ночь, зашел он к Конону Демьяновичу и усталый прилег на кровать. У дверей вдруг загудел чей-то бас. Вызывали старшего дворника.
— Лежите не шевелясь, — шепнул Конон Демьянович и вышел на зов.
— Все ли в порядке? — спрашивал городовой и мялся, ожидая приглашения.
Михаил Иванович изображал, как Конок Демьянович захрустел бумажкой, выпроваживая гостя. Трехрублевка помогла. Не проявляя излишнего любопытства, городовой откланялся, а Конон Демьянович, провожая его, приговаривал:
— Угощайтесь! И за мое здоровье не забудьте. Особенно любили мы, когда друзья из монтерской собирались внизу, в комнатах дяди Вани. Хозяйничала там жена его Марья Осиповна, — она всегда рада молодому сборищу. В квартире жили студенты, они присоединялись к нам. Общество рассаживалось на большом ковре, прямо на полу. Мебелью дядя Ваня не богат, и кавказский ковер кажется «роскошью».
Вечера «по-восточному», на Ванином ковре, были неотразимо привлекательны.
Гордость дяди Вани — его самодельный граммофон появлялся перед гостями.
Героическая машина! Все ее части дядя Ваня сделал своими золотыми руками.
Сам выпиливал, вырезывал, точил каждую деталь. Хозяин сиял, когда глуховатый рокот его детища веселил гостей. Под Ванин граммофон мы танцевали лезгинку и «русскую», которую мастерски, в присядку, с «коленцами» отплясывал Дунаев.
Рассевшись на ковре, мы слушали, как Дунаев декламировал гейневских «Ткачей»:
Челнок снует, станок гремит, И день и ночь все ткач сидит.
— Мы ткем, неустанно мы ткем…
Потом все подхватывали за ним припев любимой его песни:
Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка.
Маслом прогорьклым воняет удушливо…
Да, жизнь ткача не легка.
Эта песня и стихи были напечатаны в нелегальном сборнике «Песни борьбы и свободы». Тоненькую изданную в Риге книжечку таинственно, как настоящий заговорщик, передал мне Федя. Ему дали ее в монтерской. Это было знаком большого доверия — получить оттуда нелегальный сборник. В книжке были и давно известные нам «Варшавянка», «Интернационал», «Машинушка».
Очень любили, когда «Машинушку» затягивал Шелгунов. Медью звенел его баритон, когда он выводил:
Но страшись, грозный царь,
Мы не будем, как встарь,
Безответно сносить свое горе:
За волною волна, поднимаясь от сна,
Люд рабочий бушует, как море.
Он разрушит вконец твой роскошный дворец И оставит лишь пепел от трона, И отнимет в бою он порфиру твою И разрежет ее на знамена.
Часы пролетали быстро. Мама приходила за нами.
— Домой! — звала она.
— Как, разве уже пора? — изумлялись мы. Только что Ваня поставил новую пластинку: Карузо ноет «Матинату» Леонковалло. И дядя Ваня уговаривал Ольга, еще рано! Возьми-ка лучше гитару… Спой нам сама.
Маму начинали упрашивать все:
— Спойте, Ольга Евгеньевна! Окающий говорок Дунаева выделялся из общего хора:
— Да уж, пожалуйста, Ольга Евгеньевна, порадуйте… Мама любила петь «Узника»:
Вот узник вверху, за решеткой железной, Стоит, прислонившись к окну; Он взор устремил свой в глубь ночи беззвездной?
И словно впился в тишину…
Вокруг часовые шагают лениво, В ночной тишине то и знай, Как стоя, раздается протяжно, тоскливо:
— Слушай!..
Я слушаю маму, и думается мне, что в песнь она вкладывает все пережитое.
Сколько горестей и забот было в ее жизни и сколько твердости и мужества проявила она! Мужество, вера в лучшее никогда не изменяли нашей маме, маленькой, хрупкой, моложавой, веселой певунье. Бывало, и не догадаешься, что ей тяжело, — напевает за работой, нас всегда убаюкает песней. И в тюрьме она пела.
Те, кто были с ней в заключении, рассказывали: когда, взобравшись на окно своей одиночной камеры, мама вызывала товарищей, из-за решеток ей кричали:
— Спойте, товарищ Ольга, спойте нам!
И мама начинала песню. Ее грудной, низкий, выразительный голос утешал, успокаивал людей, поднимал их силы. Часовые кричали, требуя замолчать, но мама продолжала петь, и не раз, — вспоминали товарищи, — сами тюремщики заслушивались ее и давали докончить песню.
И сейчас я слышу в ее голосе мужество и силу… Под аккорд гитары глухо замирает припев: Слушай!
Не мне одной хочется смахнуть слезу. Но Павлуша уже подсаживается к маме.
— Ну, а теперь «Калинку», мама! Это его любимая. И, растормошив всех, он заставляет подхватить:
В саду ягода малинка, малинка моя…
На пороге появляется отец.
— Почему никого нет дома в такой поздний час? В самом деле, не пора ли всем на покой? Но Марья Осиповна не отпускает. А чай! С кавказским вареньем, и настоящие чучхели из Тифлиса!
Восточные лакомства расставлялись на ковре, «Калинка» звучала еще громче.
И папа сам не мог уже усидеть на месте.
— Да разве так поют?
— А ну, Сергей, покажи-ка им, молодежи, — подзадоривает кто-то.
Папа встает. Это уж решительный момент, если отец готов запеть.
Поет он «Среди долины ровные», со всем своим неудержимым темпераментом затягивая лихой припев:
…Эх, вы пташки, канашки мои…
Он притоптывает и разводит руками невидимую гармонь.
Дед на теще капусту рубил.
Молоду жену в пристяжке водил…
Кто же может удержаться, чтобы не подхватить:
А бумажки-то все новенькие, двадцатипятирублевенькие.
Среди друзей в монтерской Павлуша давно равноправный товарищ.
Он работает в кабельной сети, и, хотя ему только восемнадцать лет, он пользуется у солидных, пожилых кабельщиков непререкаемым авторитетом. Павел умел подойти к ним и по-дружески поговорить, навести их на размышления. Его старания не пропали даром. Летом 1913 года, когда тревожно и глухо зашумела Выборгская сторона, когда забастовали лесснеровцы, выступили на «Парвиайнене» и на других заводах, экономическая стачка готовилась и на «Электрокомпании 1886 года».
В забастовочном комитете добивались, чтобы рабочие на всех пунктах выступили одновременно. Склонить на забастовку монтеров-кабельщиков поручили Павлу.
Это было не просто. Кабельщики держались обособленно, компания их ценила, им лучше платили, у многих был хороший, обеспеченный заработок.
Павел говорил с кабельщиками, убеждая каждого в отдельности, старался пробудить в людях чувство рабочей солидарности, объяснял, как много значат нынешние выступления.