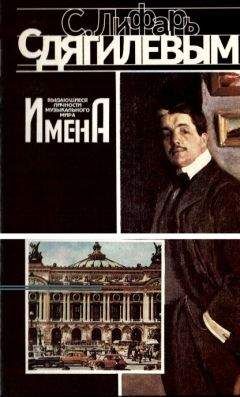Дягилев недолго оставался во Флоренции и уехал в Польшу «за артистами», иначе говоря, за книгами.
3 октября Сергей Павлович писал мне уже из Варшавы: «Родной мой. Пейзаж перед Варшавой, лесные опушки, бабы в платках напоминают нашу матушку-Русь, но сама Варшава — недурной немецкий городок, который я никак не могу хорошо осмотреть из-за безумного холода. Холодно на улицах и не жарко в комнатах. Я, конечно, начал с того, что получил хороший насморк, которому сегодня гораздо лучше. К тому же моя опухоль под мышкой оказалась не более и не менее как безболезненный фурункул, который сегодня ночью лопнул. Все это не важно, но скучно. По делам театральным — в Большой театр — пойду только сегодня. Дают оперу „Казанова" [Л. Ружицкого, 1923], где танцует женская труппа — кое-что увижу, но серьёзные спектакли будут только в субботу — новый балет-опера „Сирена" [В. Малишевского, 1928] — и в воскресенье „Жизель". Видал уже много народу, и все в своих рекомендациях называют тех же 3-х танцовщиц и 3-х танцоров, говоря, что они недурны. Нижинская взяла в кордебалет (для балета Иды Рубин-штейн.— С. Л.) 4-х мужчин, но, как говорят, не лучших. Вижу постоянно Дробецкого, Новака и Курилло — они помогают. Увижу Петрову, которая только что вернулась из турне по польской провинции! Скажи Павке, что видаю Диму и расскажу ему об этом подробно. Приезд мой вначале не был известен, но теперь весь муравейник закопошился. Был в маленьких театрах, где всё поставлено ловко, живо и есть отличные артистки, не в нашем жанре, хотя в большинстве все русские.
По книжной части ничего особенного — антикваров масса, но русскими книгами никто не торгует. Левин в Лондоне, однако его брат продал мне кое-что недурное и полезное для библиотеки. Зато, что здесь изумительно — это еда — действительно, первый сорт; дорого, но везде русская кухня и жранье ужасное.
Думаю на один день съездить в Вильну — поезда очень удобны и можно в тот же вечер вернуться в Варшаву. Здесь в общем — все танцуют. Школы бальных танцев на каждом шагу. Есть также и театральные частные школы, но учат там исключительно „пластику и акробатику" — провинциальное стремление к „модернизму"! Мечта Большого театра наконец привлечь „знаменитого балетмейстера" Чаплинского, который теперь главный хореограф Королевской оперы в Стокгольме! Повторяю, настоящих танцовщиц ещё не видел, но меня предупреждают, что здесь любят только полных женщин, и Петрова здесь считается худенькой и необыкновенно уродливой! Вообще, до Варшавы 18-го века, где останавливались Чимароза, Казанова и Каналетто, ещё им далеко. И тут только видишь, насколько Берлин — столица. Вместе с тем все очень любезны, стараются Вас понимать и отвечать по-русски, однако всё молодое поколение действительно по-русски больше ни слова не говорит,— да это и понятно!
Близость России совершенно не чувствуется — о большевизме нет и намека, и русские — просто бедный народ, которому отсюда некуда и не на что ехать. Все это очень интересно, но серо. Однако вчера одна из талантливых шансонеток спела в кабаке русскую песенку „Семячки, семячки" — причём было объявлено, что будут показаны прелести советского рая, — она была более подлинна, трогательна и жалка, чем все Таировы вместе. Был триумф, а у меня зажало горло, и я долго не мог заснуть.
Бог над вами обоими — обнимаю тебя, моего хорошего родного. СПДК».
В этом большом письме, вообще очень важном для понимания Дягилева, нужно выделить одну фразу: «Скажи Павке, что видаю Диму и расскажу ему об этом подробно». О своем свидании с «Димой» Философовым Сергей Павлович действительно рассказывал нам с Павлом Георгиевичем очень подробно, много и... с большой горечью. После большого перерыва Сергей Павлович увиделся со своим «Димой» в Варшаве и не только не нашел с ним общего языка, но и услышал странные, неожиданные речи: фанатик-журналист Философов напал на Дягилева за то, что тот занимается совершенно «ненужными» и «бесполезными» вещами в такое время, когда...
В то время как Сергей Павлович, оставив меня — в который уже раз? — «на попечение» Павла Георгиевича, путешествовал по Германии и Польше, я оставался сперва несколько дней во Флоренции, откуда поехал в Милан, где занимался с Чеккетти (24 сентября начинался его класс).
Снова и снова я ходил во Флоренции по галерее Уффици, останавливаясь подолгу перед картинами и стараясь заглушить и задушить в себе нарастающую тревогу и бунт против того, кто обрекал меня снова на одиночество, из которого он вызвал меня для того, чтобы ещё сильнее испытать его горечь. Я замыкался в себе, уходил безропотно и внешне спокойно от Сергея Павловича. Спокойствие было внешнее — я не устраивал сцен, не укорял, был овечьи терпелив — и не видел, что у меня развивается неврастения, что у меня появились провалы, не замечал — и это было тяжелее всего,— что я целыми днями ни слова не говорил. Моя беспредельная, безграничная преданность ему боролась с бунтом... В моём воображении я спорил, протестовал, разрешал одиноко все глубокие проблемы жизни и искусства. В мыслях я творил, был умён и красноречив. К моим мыслям, к моим «находкам и смелым планам» я был ревнив. Вкрадывалось раздражение. Отделённость. Раздельность... В октябре, вернувшись из поездки по Польше, Сергей Павлович приезжал на несколько дней в Милан и снова уехал, на этот раз в Париж — готовить двадцать первый сезон.
В ноябре у нас начинался большой сезон в Англии. 12—17 ноября мы давали спектакли в Манчестере. Памятно мне моё горестное выступление 13 ноября в «Сильфидах», когда в глубокой грусти и горе я танцевал с чёрным бантом вместо белого — в этот день умер мой маэстро (я имею право говорить «мой» маэстро) Чеккетти. Последний урок у меня был с ним 31 октября, и, уезжая из Милана, я знал, что никогда больше не увижу его, что он больше не будет ни с кем заниматься и что его смертный час близок. Я был подготовлен к его смерти, и всё же известие о том, что его больше нет, ударило меня горем. 12 ноября он отправился в свою школу, и во время урока его разбил сердечный паралич, на следующее утро, 13 ноября, он «тихо отошёл», до последней минуты сохраняя сознание и продолжая дышать только тем искусством, которому посвятил всю свою жизнь; его последние слова были об учениках и о балете... 18 ноября мы уехали из Манчестера. Вся труппа отправилась сперва в Бирмингем, потом в Глазго и Эдинбург, Сергей Павлович вернулся в Париж, но на этот раз не из-за книжек, а из-за спектаклей Иды Рубинштейн: в это время он оказался в «балетной» полосе и кипел и горел балетом. Большую роль оказали в этом отношении спектакли Иды Рубинштейн, которые он не пропускал и о которых мне подробно писал. Первое письмо-ответ Дягилев написал 25 ноября: