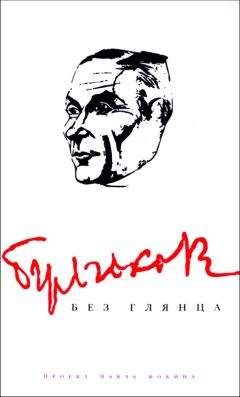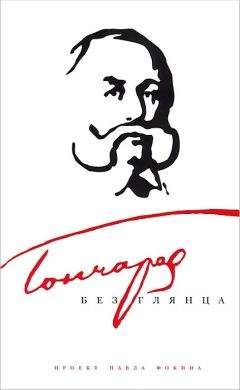И здесь — так же хрипло и страшно:
Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон… Вниз, решившись, наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели, действительно, бездна под ногами?..
Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли… потекли…
Женский голос:
— Ах… не могу!
Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.
— Позвольте, я возьму.
На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?
— Три пуда… Утаптывали муку.
Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.
От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.
Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались, наконец, из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядит. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму. <…>
На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные, яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?
Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.
Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малюют. [1; 490–492].
Татьяна Николаевна Кисельгоф. Из беседы с Л. Паршиным:
<…> Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше чем уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились… То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского… то ли у Земских. Но, вот знаете, ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего. Все уже как-то… перегорело [12; 93–94].
Михаил Афанасьевич Булгаков. Из письма В. М. Булгаковой-Воскресенской. Москва, 11 ноября 1921 г.:
Очень жалею, что в маленьком письме не могу Вам передать подробно, что из себя представляет сейчас Москва. Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни.
Въехав 1 1/2 месяца тому назад в Москву в чем был, я, как мне кажется, — добился maximum’a того, что можно добиться за такой срок. Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И второго я, представьте, добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кой-как едим, запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д.
Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый без перерыва день.
Идет полное сворачивание советских учреждений и сокращение штатов. Мое учреждение тоже подпадает под него и, по-видимому, доживает последние дни. Так что я без места буду в скором времени. Но это пустяки. Мной уже предприняты меры, чтоб не опоздать и вовремя перейти на частную службу. Вам, вероятно, уже известно, что только на ней или при торговле и можно существовать в Москве. И мое, так сказать, казенное место было хорошо лишь постольку, поскольку я мог получить на нем около 1-го милл. за прошлый месяц. На казенной службе платят туго и с опозданием, и поэтому дальше одним таким местом жить нельзя. Я предпринимаю попытки к поступлению в льняной трест. Кроме того, вчера я получил приглашение пока еще на невыясненных условиях в открывающуюся промышленную газету. Дело настоящее коммерческое, и меня пробуют. Вчера и сегодня я, т. ск., держал экзамен. Завтра должны выдать 1/2 милл. аванса. Это будет означать, что меня оценили, и возможно тогда, что я получу заведывание хроникой. Итак, лен, промышленная газета и частная работа (случайная), вот что предстоит. Путь поисков труда и специальность, намеченные мной еще в Киеве, оказались совершенно правильными. В другой специальности работать нельзя. Это означало бы, в лучшем случае, голодовку.
Труден будет конец ноября и декабрь, как раз момент перехода на частные предприятия. Но я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить volens-nolens. Знакомств масса и журнальных и театральных и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, невиданной в ней давно уже жизни — яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю.
Таська ищет места продавщицы, что очень трудно, п. ч. вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтоб молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец! Одним словом, бьемся оба как рыбы об лед. Самое главное, лишь бы была крыша. <…>
В Москве считают только на сотни тысяч и миллионы. Черный хлеб 4600 р. фунт, белый 14 000. И цена растет и растет! Магазины полны товаров, но что ж купишь! Театры полны, но вчера, когда я проходил по делу мимо Большого (я теперь уже не мыслю, как можно идти не по делу!), барышники продавали билеты по 75, 100, 150 т. руб.! В Москве есть все: обувь, материи, мясо, икра, консервы, деликатесы, все! Открываются кафе, растут как грибы. И всюду сотни, сотни! Сотни!! Гудит спекулянтская волна.
Я мечтаю только об одном: пережить зиму, не сорваться на декабре, который будет, надо полагать, самым трудным месяцем.
Таськина помощь для меня не поддается учету: при огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно пробегать (буквально) по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне лишь то, что уж сама не может сделать: колку дров по вечерам и таскание картошки по утрам.
Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед (продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель.