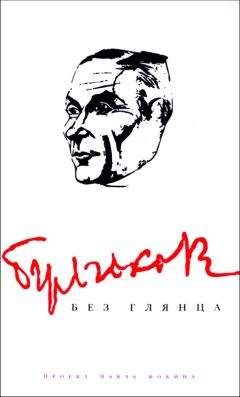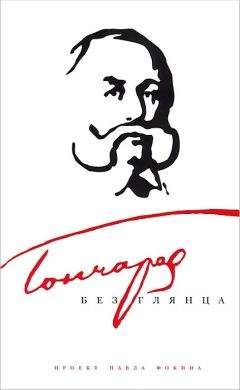Но авось! Лишь бы комната и здоровье! <…>
Не буду писать, п. ч. Вы не поверите, насколько мы с Таськой стали хозяйственны. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни.
По ночам урывками пишу «Записки земск. вр.». Может выйти солидная вещь. Обрабатываю «Недуг». Но времени, времени нет! Вот что больно для меня! <…>
Конечно, при той иссушающей работе, которую я веду, мне никогда не удастся написать ничего путного, но дорога хоть мечта и работа над ней. <…>
Р.S. Самым моим приятным воспоминанием за последнее время является — угадайте, что?
Как я спал у Вас на диване и пил чай с французскими булками. Дорого бы дал, чтоб хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать. Так сильно устал [2; 403–405].
Ирина Сергеевна Раабен:
Было видно, что жилось ему плохо, и не представляла, чтобы у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Он обогревался в нашем доме, хотя мы сами жили тогда бедно. <…> Он был голоден, я поила его чаем с сахарином, с черным хлебом; я никого с ним не знакомила, нам никто не мешал [5; 129].
Михаил Афанасьевич Булгаков. Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 1 декабря 1921 г.:
Я заведываю хроникой «Торг. Пром. Вести.», и если сойду с ума, то именно из-за него. Представляешь, что значит пустить частную газету?! Во 2 № должна пойти статья Бориса. Об авиации в промышленности, о кубатуре, штабелях и т. под. и т. под. Я совершенно ошалел. А бумага!! А если мы не достанем объявлений? А хроника!! А цена!!! Целый день как в котле.
Написал фельетон «Евгений Онегин» в «Экран» (театр. журнал). Не приняли. Мотив — годится не для театр., а для литер. журнала.
Написал посвященн. Некрасову худож. фельет. «Муза мести». Приняли в Бюро худ. фельет. при Г.П.П. Заплатили 100. Сдали в «Вестник Искусств», который должен выйти при Тео Г.П.П. Заранее знаю, что или не выйдет журнал, или же «Музу» в последи, момент кто-нибудь найдет не в духе… и т. д. Хаос.
Не удивляйся дикой небрежности письма. Это не нарочно, а потому что буквально до смерти устаю. Махнул рукой на все. Ни о каком писании не думаю. Счастлив только тогда, когда Таська поит меня горячим чаем. Питаемся мы с ней неизмеримо лучше, чем в начале. Хотел написать тебе длинное письмо с описанием Москвы, но вот что вышло… [2; 406–407]
Михаил Афанасьевич Булгаков. Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 10 января 1922 г.:
Шли газеты (киевск., одесск., харьковск.) заказными бандеролями, чтобы иметь квитанции. Материала жду с нетерпением. Всплывают конкурирующие издания, работаем в муках.
Пиши: какие тресты образовались, кто во главе, что делает биржа (что предлагают, что спрашивают, с маклерами или без них), какие артели образовались, союзы их, как развиваются магазины, банк (курс), состояние рынка, подвоз, спрос, цены и т. д. и т. д. и т. д.
Что рыночные цены упали на рынке — великолепно. Значит, они соответствуют действительности. Такие цены, как цены комитета цен, биржевого ком. и т.д., тоже нужны, но они несколько отстают и носят официальный характер. Но они тоже нужны. Наприм.: Цены утвержденные Бирж. Ком. (к примеру) такие-то, такие-то и такие-то.
А рыночные само собой. Итак, жду корреспонденции и газет [2; 407].
Михаил Афанасьевич Булгаков. Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 11 января 1922 г.:
Сегодня «Вестник» получил твою корреспонденцию о рыночных ценах на 31 декабря, и тотчас же я настоял, чтобы редактор перевел тебе 50 тыс. Это сделано. И одновременно с корреспонденцией меня постиг удар, значение которого ты оценишь сразу и о котором я тебе пишу конфиденциально. Редактор сообщил мне, что под тяжестью внешних условий «Вестник» горит. Ред. говорит, что шансы еще есть, но я твердо знаю, что он не переживет 7-го №. Finita! <…>
В этом письме посылаю тебе корреспонденцию «Торговый ренессанс». Я надеюсь, что ты не откажешь (взамен и я постараюсь быть полезным тебе в Москве) отправиться в любую из киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную) и предложить ее срочно.
Результаты могут быть следующие:
1) ее не примут
2) ее примут
3) примут и заинтересуются.
О первом случае говорить нечего. Если второе, получи по ставкам редакции гонорар и переведи его мне, удержав в свое пользование из него сумму, по твоему расчету необходимую тебе на почтовые и всякие иные расходы при корреспонденциях и делах со мной (полное твое усмотрение).
Если же 3, предложи меня в качестве столичного корреспондента по каким угодно им вопросам же для подвального художественного фельетона о Москве. Пусть вышлют приглашение и аванс. Скажи им, что я завед. хроникой в «Вестнике», профессиональный журналист [2; 408–409].
Арон Исаевич Эрлих:
Я пошел бродить по бесконечным коридорам Главполитпросвета, уже освещенным ввиду ранних октябрьских сумерек. <…>
Где-то на четвертом этаже в темном углу предстала передо мной дверь с надписью «Лито»… <…> Я толкнул дверь, и передо мной открылась… не комната, нет, то был довольно внушительный зал, обширное, но пустынное помещение, в самой отдаленной глубине которого за единственным конторским столом, застеленным газетной бумагой, сидел пожилой человек в серой папахе и в теплом, наброшенном на плечи пальто. Старик, скучая, поглаживал рыжие свисающие усы.
Я стоял на пороге раскрытой двери в молчаливой, вопросительной позе. Старик за далеким столом тоже молча и пристально, с заметным удивлением присматривался ко мне некоторое время, потом сделал приглашающий знак указательным пальцем. Он осторожно поманил меня, точно собирался поделиться какой-то тайной. Я двинулся вперед медленно и почему-то, на носках, стараясь быть как можно более бесшумным.
По мере того как я приближался, человек с рыжими усами все круче перегибался корпусом через стол мне навстречу.
Вот, наконец, мы оказались лицом к лицу.
— Табачок есть? — шепотом спросил хозяин комнаты. <…>
Я достал кожаный портсигар. <…>
Нетерпеливо, радуясь, он угостился «рассыпными», то есть продававшимися поштучно, папиросами «Ира». Наслаждение, смешанное с бурной благодарностью, отразилось на его лице.
— Что вам, товарищ? — Он блаженствовал, изголодавшийся курильщик, дорвавшийся после долгого воздержания к первой затяжке. — Садитесь, пожалуйста.
Я рассказал о себе, о первых своих опытах в печати — словом, о всех своих мечтах и надеждах…
Он слушал сочувственно, даже озабоченно и вдруг, насторожившись, снова перегнулся над столом, сделав кому-то за спиной у меня уже знакомый пригласительный знак пальцем.