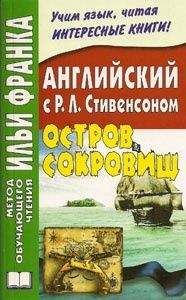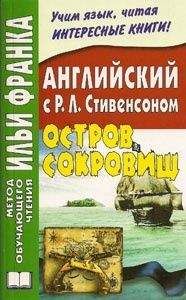Отторжение реального пространства оказалось формообразующим чувством для создателей современной русской литературы.
* * *
В сочинении Блудова позади пародии читается сюжет об иерархии русских пространств. Они выстраиваются на шкале с полюсами «столица» — «провинция». Именно на это среагировали его соратники карамзинисты, которые воевали с «Беседой» за власть в бумажной стране, за место наверху литературной «царь-горы». Принимая в карнавальной игре прозвание безвестных, они сломя голову бежали от безвестности. В итоге их несознаваемый страх перед провинциальным русским морем оказался чувством, партийно, «классово», литературно формообразующим.
Отторжение пространства, как повод к тексту, — вот мотив, мобилизующий современное русское слово, понукающий его к скорому бегу по строке (из провинции, некомфортного, внешнего пространства — в столицу). Таков первый «стереометрический» вывод, который можно извлечь из наблюдения того, как изменился город Арзамас в сочинении Дмитрия Блудова.
* * *
В известном смысле об этом уже шла речь — в разборе странствия Николая Карамзина по Европе, а именно о том, как дискомфорт внешнего (европейского) пространства вернул Карамзина как писателя в Москву. Разумеется, это был другой дискомфорт, взявшийся из отторжения чужбины, продиктованный понятной ностальгией. Но есть и то, что роднит два эти чувства, Карамзина и Блудова, учителя и ученика: оба они испытали характерную московскую ностальгию.
В Москве родился современный русский язык, она составила ему материнское лоно, матрицу, по которой можно определять его характерные «родовые» свойства. Первый толчок его появлению дал Карамзин, его дело продолжили Блудов со товарищи, безвестные арзамасцы, — выходит, что все они прятались в Москве от внешнего, внемосковского пространства.
Москва прячется сама в себе от этого внешнего пространства. Отсюда и язык ее — «фокусничающий», центростремительный, бегущий от краев к центру.
Мы уже сравнивали Москву со льдиной, плавающей середь бездонного русского моря. Море для Москвы есть нечто запредельное, внешнее, иное. Русский (московский) язык бежит от этого запредельного, внешнего, иного: всегда бежит от моря и всегда — в Москву.
Откуда море в Арзамасе? Если это не просто метафора, обозначающая беспредельность и глубину неподъемной русской провинции, то где оно и что оно такое, это невидимое арзамасское море?
Нет, для Арзамаса, настоящего, реального Арзамаса, море — это не одна только метафора. Об этом уже заходила речь: город Арзамас стоит на внутренней границе России, в месте, где христианская территория граничит с областью темного финского (мордовского, языческого) леса.
Этот древний лес и есть внутреннее русское море, темное и некрещеное.
Такое море и теперь видно в Арзамасе [30]; этот город как будто специально устроен для того, чтобы заглядывать со своего невысокого «балкона» в южные языческие дали.
Языческие: это важное уточнение.
С этого начиналась наша история о блужданиях Блудова, о его знаковом путешествии, имевшем столь важные последствия для развития русской литературы. Он не просто заблудился — он «утонул» в иноязычном и иноверующем море, разливающемся вокруг Арзамаса. Колдовской лес водил Блудова по кругу, затуманивая в его голове внятное представление о географии. Он тонул в море (финского, варварского леса) и спасся на «римском» берегу Арзамаса.
Нет, тут не одни метафоры о неподъемной и бескрайней русской провинции. Здесь видна реальная географическая и вместе с ней духовно-историческая составляющая [31]. Город Арзамас был «береговым» форпостом христианской империи, заглядывающим в финский лес, как в иной мир.
* * *
Я хорошо знаю этот город; мне понятна подоплека сказки Блудова, его отторжения не просто от провинции, но от иного, иначе верующего, иначе говорящего и мыслящего мира.
Можно найти много мест на русской карте, где проходит граница русской и финской территорий. Особенность Арзамаса в том, что он стал символом их ментального противостояния. Одним своим названием — пусть от противного, в насмешке Блудова — он обозначил место, где современное русское слово оказывается на некоем важном для себя пределе. За этим пределом — глушьбессловесная.
* * *
Арзамас умеет внушить страх человеку слова. Можно вспомнить Толстого с его «арзамасским ужасом» или Максима Горького и его цепенящий, полумертвый «Город Окуров», под которым выведен настоящий Арзамас (Горький в свое время был сослан в него из Нижнего; лучше так — Горький был сослан из Горького). Многое что можно вспомнить. Но лучше все же не пугаться вслед за нашими литераторами, а для начала в общих чертах разобраться в причине их «бумажных» страхов и для этого хоть несколько географизировать Арзамас. Поместить его на карту и в историю, ясную последовательность фактов, расположить в «прямо видимом» поле сознания. Возможно, в этом действии хоть несколько разнимет створки тот «малый» русский язык, который мы, в ожидании лучшего определения, условно обозначили как «московский». Центростремительный, склонный к фокусу и сжатию, исполненный скрытых чувств, привычно отгораживающий себя от внешнего, иного пространства.
Все это не универсальные, но именно характерные, узнаваемые его черты. Их можно списать на следствие «родовой» (постпугачевской) травмы, соотнести с политическим противостоянием той эпохи, связать с событием перевода Библии — все это мы уже проделали и найдем еще новые сопоставления и связи. Важно понять, что эти связи суть составляющие единого целого, что они не случайны, и мы имеем дело с устойчивым феноменом сознания, который можно уверенно диагностировать на примере «парного» явления Арзамаса и «Арзамаса».
История реального Арзамаса, в достаточной мере пестрая и богатая, в первую очередь свидетельствует о его характерном пограничном состоянии [32]. На этой границе Московия с давних пор спорила с Мордовией, страной, много старшей ее и потому, в московской памяти, влиятельной, — страной, пугающей Москву несознаваемым, древним, «детским» страхом.
Изначально это были родственные, по своему сакральному статусу финские территории, затем Москва принялась восходить к христианству: тогда-то и образовалась эта ступень, с которого русский мир стал, словно с балкона, заглядывать поверх мордовского — на юг, в темный лес. Русское христианство несколько веков смотрело здесь сверху вниз в глаза древнему лесному язычеству [33].