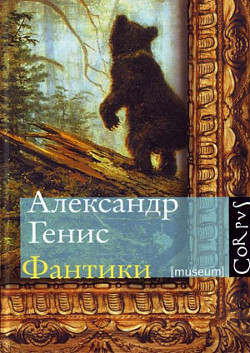права, умеет ими пользоваться, ценит уют и распространяет его на все, до чего дотянется.
12 июня
Ко дню рождения Эгона Шиле
Искусство стремилось раздеть женщину, начиная с палеолитической Венеры, лишенной головы, но не половых органов. С тех пор художники всех стран и времен стремились изобразить женщину все более голой. У Тициана женская плоть мерцает, у Рубенса – складируется, у Мане вызывает скандал. Провоцируя публику, художники обостряли ситуацию. В “Завтраке на траве” того же Эдуарда Мане дерзкая скабрезность заключается в том, что нагая дама окружена полностью одетыми мужчинами. У Модильяни ко всему привычных парижан возмутило то, что обнаженная модель смотрит им прямо в глаза.
Шиле пошел дальше. У него царит агрессивная нагота без фигового листка античных аллегорий, библейских нравоучений или эксцентрического антуража. Шиле не оголяет женщину, а выворачивает ее наизнанку. И этим он разительно отличается от своего учителя Густава Климта. На эротических рисунках последнего женщины в распахнутых пеньюарах изображены мягкими и тоже кружевными линиями. Занятые собой, они не догадываются, что мы за ними подглядываем в самые интимные моменты их очень личной жизни. Рисунки Климта потакают мужским фантазиям. Это – упражнение в вуайеризме, развивающее любовные капризы рококо. Климт продлил Фрагонара, проводив своих дам с качелей в спальню. Но у Шиле нет игривого оправдания. Эрос для него был противоядием от культуры. Отказываясь от любого контекста, Шиле писал свои фигуры в пустоте, без всякого фона, хотя бы намекающего на ситуацию, в которой делался рисунок.
Мы знаем об этом от свидетелей. В аскетически обставленной студии стояли покрашенные в черный цвет стул и лестница. Шиле часто работал, стоя на ней, предпочитая вид сверху. Он никогда не пользовался резинкой и часто держал карандаш в руке без опоры, рисуя от плеча (попробуйте, чтобы понять, как это трудно). Хотя в каждой работе чистой бумаги больше, чем заполненной, они никогда не производят впечатление незаконченных. Шиле не писал эскизов. Лишь покончив с графикой, художник, отпустив настрадавшуюся натурщицу, прибегал к скупой, но эффективной живописи. Шиле мыслил формой, а не цветом, который он трактовал как курсив или ударение.
Его фантастическое мастерство потрясло современников.
– Есть ли у меня талант? – набравшись смелости, спросил совсем еще юный Шиле у первого художника Австрии.
– Слишком много, – ответил Климт.
13 июня
Ко дню рождения Христо
Когда Христо был еще Явашевым, скромным студентом Софийской Академии художеств, он во время летней практики работал в бригаде художников, создававших разного рода камуфляжи по пути следования восточного экспресса, дабы его пассажиры-иностранцы не заметили ничего неприглядного. Добравшись в 1956-м до Запада, а в 1964-м до Нью-Йорка, ставшего его последним домом, художник не забыл своей художественной “родины”: потемкинской деревни. Став апостолом авангарда, демиургом постмодернизма и гением хеппенинга, Христо признавался, что многое взял из пропагандистского искусства.
Однако общее с агитпропом у Христо – только средство, но не цель. Собственно, политическое искусство тем и отличается от настоящего, что первое знает, зачем оно существует, тогда как второе бесцельно. Изъяв прагматизм из пропаганды, Христо превратил утилитарное художество в абстрактное – ненужное и незаменимое.
Труднее всего в его работе, говорил Христо, убедить скептиков, спрашивающих, зачем все это нужно. “Незачем”, – терпеливо объяснял художник, напоминая о закате, который тоже никому не приносит пользы.
Его произведения нуждаются в личных впечатлениях.
Я в этом убедился в 2005 году, когда на шестнадцать зимних дней Центральный парк Нью-Йорка превратился в тихий оазис эстетической утопии. Христо украсил парк стальными воротами, завешенными оранжевой тканью.
Я приходил в парк через день, потому что открытые всем стихиям “Ворота” Христо меняли жанр в зависимости от погоды. В штиль пятна оранжевой ткани врывались в ландшафт, как полотна Матисса. В солнечный день нейлон, словно витраж, ловил и преувеличивал свет. Ветер, раздувая завесы, лепил из них мобильные скульптуры, напоминающие то оранжевые волны, то песчаные дюны, то цветные сны. Ньюйоркцы проходили под воротами, приглушая голоса, как будто участвовали в храмовой процессии. В сущности, так оно и было: толпа зевак превратилась в колонну паломников.
14 июня
Ко дню рождения Дайдо Лури
Первый американец, возглавивший дзен-буддийский монастырь, бродил по двору в джинсах, грубых башмаках и бейсбольной кепке. Высокий, костлявый, загорелый, он казался своим среди местных рыбаков, охотников и ветеранов. Когда монах прикуривал, я увидел на его запястье чернильный якорь. В шестнадцать лет, подделав год рождения, Лури сбежал в морские пехотинцы. После войны он стал физиком, затем фотографировал, выставлялся в музеях, опять ушел, на этот раз в буддизм, и, наконец, основал монастырь. Но татуировка осталась. Она чуть не помешала Лури стать настоятелем. В Японии, где его экзаменовали дзенские авторитеты, наколки носят только бандиты из якудзы.
– Всю жизнь, – говорил Дайдо в нашу последнюю встречу, – мы ведем бесконечные переговоры с прошлым и будущим. Но вчера прошло, а завтра не наступило. Занятые несуществующим, мы упускаем настоящее, которым способны распоряжаться, – мгновение.
– Медитация – это дзен, – спросил я, – или дзен – это медитация?
– Одна была всегда, второй ее вернул в жизнь, когда мы разучились заключать сами с собой перемирия. Учеников я учу одному: заткнуться, посидеть тихо, ни о чем не думая. Все, кроме нас, это умеют, даже колибри.
– Кто научил вас буддизму?
– Фотоаппарат. Свет постоянно меняется, и рано или поздно приходит единственный момент, раскрывающий себя. Он длится – при подходящей выдержке – всего одну шестидесятую часть секунды. Это и есть настоящее.
– А будущее? Разве бывает без него религия?
– Она называется буддизмом. Будда учил сорок семь лет и говорил лишь о том, что происходит сегодня, ибо лишь здесь и сейчас можно стать буддой. Это ведь не имя, не титул, а состояние, вернуться к которому может каждый.
– Вы будда?
– Конечно. Будда передал путь, дхарму, своему последователю Кашьяпе, тот – Ананде и так далее, пока в восемьдесят четвертом поколении я не получил от своего наставника учение, чтобы передать его своим ученикам.
– Вы учите, как стать буддой?
– Только этому. Каждый год через монастырь проходит пять тысяч человек.
– Сколько же ваших учеников достигли цели?
– Двое.
Я, кстати, знаю обоих. Он был нью-йоркским математиком, она – японской балериной.
15 июня
Ко дню рождения Льва Лосева
Дебютировав в тридцать семь лет, в том возрасте, что для других поэтов стал роковым, Лосев избежал свойственного юным дарованиям “страха влияния”. Он не знал его потому, что считал влияние культурой, ценил преемственность и не видел греха в книжной поэзии. Среди чужих слов его музе было так же вольготно, как другим среди облаков и березок. Войдя в поэзию без скандала и по своим правилам, Лосев сразу начал со взрослых стихов и оказался ни на кого не похожим, в том числе – сознательный выбор! – и на Бродского.
Друзья и современники, они смотрели на мир одинаково, но писали о нем по-разному. Играя в классиков, Лосев отводил себе место Вяземского при