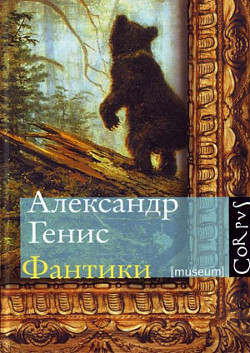Пушкине. Просвещенный консерватор, строгий наблюдатель нравов, немного стародум, в равной мере наделенный тонким остроумием, ироничной проницательностью и скептической любовью к родине.
На последней необходимо настоять, потому что Лосев был отнюдь не безразличен к политике. Разделяя взгляды вермонтского соседа, он, как и Солженицын, мечтал увидеть Россию “обустроенной” по новоанглийской мерке. Локальная, добрососедская демократия, а главное – чтобы хоть что-нибудь росло.
“Извини, что украла”, – говорю я воровке;“Обязуюсь не говорить о веревке”, —говорю палачу.Вот, подванивая, низколобая про…Канта мне комментирует и Нагорную Проповедь.Я молчу.Чтоб взамен этой ржави, полей в клопоморевновь бы Волга катилась в Каспийское море,вновь бы лошади ели овес,чтоб над родиной облако славы лучилось,чтоб хоть что-нибудь вышло бы, получилось.А язык не отсохнет авось.
Идеал Лосева без зависти пропускал и романтический XIX век, и истерический XX, чтобы найти себе образец в ясном небе Просвещения. Законы меняют людей, остроумие оправдывает стихи, и каждый возделывает свой садик.
У Лосевых он был полон цветов и съедобной зелени. Однажды за ней пришел перебравшийся через ручей медведь, но и он не разрушил идиллии. Составленная из умных книг и верных друзей, жизнь Лосева была красивой и достойной. Стихи в ней занимали только свое место, но читал он их всегда стоя.
16 июня
К блудню
Блум не стал самым полным человеком в мировой литературе. Мы его даже не можем себе представить, как не видим себя со стороны. Разве скажешь, что Блум, ростом с ирландского полицейского, – самый высокий персонаж “Улисса”. Следя за героями, которые знают больше нас о себе и окружающем, мы вынуждены догадываться о целом по обрубкам слов и окуркам мыслей. Джойс нас погружает в подслушанный и подсмотренный мир.
Иногда, в полусне, мне кажется, что я вижу, как Джойс писал, валя всё в кучу. Так возникла поэма “Москва – Петушки”, живо напоминающая первую и самую обаятельную главу “Улисса”. Чем дальше, впрочем, тем сложнее, но принцип – один: пойдет в дело всякое всплывшее слово. Заражая собой текст, оно инфицирует окружающие абзацы, пока не иссякнет его вирулентная энергия. Педанты давно проследили за эстафетой семантических микробов, но от этого читать “Улисса” не стало проще. Не спасет ни ссылка на куплет и цитату, ни диаграмма, ни хроника. Все это поможет насладиться “Улиссом”, но не понять его, ибо этой книге нельзя задать главный вопрос: о чем она? И уж этим роман Джойса точно не отличается от жизни.
Трудными книги делают не идеи, они, напротив, упрощают текст, потому что их можно выпарить, как концепцию истории из “Войны и мира”. Сложнее всего справиться с неупорядоченным хаосом той книги, что лишена авторской цели и умопостигаемого смысла. Джойс считал это смешным. Он пошутил над литературой, оставив “Улисса” пустым, но полным.
– Если Дублин сотрут с лица Земли, – хвастался автор, – город можно будет восстановить по “Улиссу”.
К счастью, этого никто не пробовал, но армия читателей берет у Джойса напрокат один день, называя его Bloomsday, или, как предложил русский переводчик, “Блудень”. Начав его жареной почкой, продолжив бутербродом с горгонзолой и закончив в ирландском (где бы он ни стоял) пабе, мы участвуем в ритуале, претворяющем изящную литературу в обыкновенную, но постороннюю жизнь. Войдя в нее без оглядки, мы оказываемся внутри чужого мира, который с годами становится твоим. Привыкнув, я чувствую и Дублин родным, и горожан – родственниками, хотя мне даже не довелось бывать в Ирландии.
17 июня
Ко дню рождения Леонида Добычина
Название его главной книги “Город Эн” (1935) решительно отсылает читателя к Гоголю. Но действие разворачивается в совсем иных местах – в городе, который в то время был русским Двинском, а в мое – латышским Даугавпилсом. Важно, что и в том и в другом обличье он оставался собой: скучным, невзрачным, провинциальным, а значит, неотличимым от того самого NN, куда въехала бричка на первой странице “Мертвых душ”. Однако в силу некоей аберрации зрения малолетний герой Добычина принимает гоголевскую сатиру за идиллию, Эн – за земной рай, Чичикова – за эталон, а Манилова – за его лучшего друга. С начала до конца Гоголь мерцает сквозь текст как знак иной реальности, но проза самого Добычина не имеет ничего общего с автором “Мертвых душ”. Наоборот, эта книга – демонстративный анти-Гоголь.
Мальчик у Добычина отличается от всех других литературных детей тем, что пишет предельно скупо. Слова его бедны, глаголы безоценочные, прилагательные отсутствуют, чувства – тоже. “Дождь моросил… За замком шла железная дорога и гудки слышны были… Телеги грохотали… На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали”.
Мальчик болен литературным аутизмом. Лишенный дара слова, он заперт в своем бесцветном, безъязыком мире. Мальчик растет, и вместе с ним растет его беда. Мир вокруг него расширяется, и ему все труднее поместиться в нищий словарь. Избавление приходит лишь за страницу до конца. Случайно герой узнает, что он всю жизнь был близоруким. Взяв реванш за упущенные годы, он, надев пенсне, впервые навел окружающий мир на резкость, и все оказалось прекрасным: “Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи”.
Эта книга рассказывает об открытии литературы, такой, как у Гоголя. Но чтобы написать о ее волшебных – преобразующих реальность – свойствах, Добычин сначала создал слепой мир без словесности.
Что разглядел прозревший мальчик, мы никогда не узнаем, потому что Добычин исчез в 1936 году, не дописав начатого. Вероятно, его довели до самоубийства критики, включая таких блестящих, как Наум Берковский. Среди прочего они не простили этому удивительному писателю литературы, отказавшейся от самой себя.
18 июня
Ко дню рождения Ивана Гончарова
Ябы сравнил поиски смешного с грибной охотой. Известно и где, и что, и когда, но потом находишь боровик у заплеванного порога дачного вокзала, и счастье навсегда с тобой. Для меня Гончаров – вроде такого боровика. Гоголь – понятно, Чехов – тем более (у него старая дева пишет книгу “Трамвай благочестия”). Другое дело – одутловатый Гончаров. Он так долго жил в наших краях, что главную на Рижском взморье дорогу при царе назвали его именем, но потом переименовали, дважды: сперва – за то, что был цензором, потом – за то, что был русским. Гончарова мучила зависть, он писал в кабинете, обитом пробкой, его раздражали шум и современники. Но есть у Гончарова очерк “Слуги старого века”, по которому русский язык преподавали викторианцам, соблазняя их вполне диккенсовским парадом эксцентриков.
Один из них, камердинер Валентин, составлял словарь “сенонимов” из однозвучных слов. В нем, рассказывает Гончаров, “рядом стояли: «эмансипация и констипация», далее «конституция и проституция», потом «тлетворный и нерукотворный», «нумизмат и кастрат»”.
Это семантика, взятая в заложники фонетикой, водоворот случайных ассоциаций, буйный поток приблизительной речи, свальный грех словаря. Сейчас я бы добавил