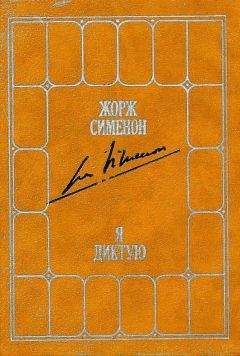Индейцы так же, как в Америке, бунтуют. С моей точки зрения, их не в чем упрекнуть. Некогда во время постыдных войн их было уничтожено столько, что оставшиеся в живых имеют хоть какое-то право на человеческое отношение.
Я ознакомился также с индейскими лагерями во Флориде, в Аризоне; тамошний мой садовник был когда-то вождем племени.
Те, кого долгие годы унижали, будь то индейцы, африканцы или азиаты, повсюду начинают поднимать голову.
Я никогда не занимался политикой. Для этого нужны грязные руки, а я свои всегда берег. Но я не могу удержаться от радости, видя, куда движется мир.
Наконец-то оскорбительная самонадеянность правительств, заместителей министров и прочих чиновников, причисленных к министерским канцеляриям, в том числе самих министров, а также, разумеется, банкиров и крупных промышленников наталкивается на сопротивление, хотя оно еще только начинается.
Забастовщики теперь требуют не только повышения заработной платы, сокращения рабочего времени или увеличения отпусков. Там, где из-за скверного управления собираются произвести полное или частичное увольнение, рабочие занимают предприятия.
Те, кто производит, предъявляют счет.
Если рабочий или инженер оказывается некомпетентным, его увольняют.
Почему же рабочие и инженеры не имеют права контролировать компетенцию и честность директоров, от которых зависит их заработок?
Я знаю, что надо ожидать упорного противодействия, может быть, жестоких схваток и даже серьезных потрясений.
Мое внутреннее чутье велит мне приветствовать все, что приближает нас к обществу будущего.
Тереза каждый день читает «Коррьере делла сера» и находится в курсе того, что происходит в Италии; она сообщила мне интересный факт. Рабочие одного большого завода в этом году, как обычно, ушли в отпуск. Когда же они вернулись и хотели приступить к работе, оказалось, что в цехах нет ни одной машины. Хозяева их вывезли неизвестно куда, и сотни рабочих превратились в безработных.
4 октября 1974
Хочешь не хочешь, но каждому приходится сейчас думать о том, что называют мировым кризисом: он в той или иной степени затрагивает всех. Большинство стран якобы приняло меры по ограничению потребления сырья, топлива и многих других продуктов; ожидается, что ограничения распространятся на все.
За исключением, естественно, автомобилей, потому что автомобиль — пуп современного мира.
Вчера у меня был мой американский издатель. Он утверждает, что в США положение с книгоизданием ничуть не лучше, чем во Франции или любой другой стране. Ко всем прочим кризисам прибавился еще и бумажный.
Издатели с трудом добывают бумагу, чтобы печатать своих авторов и новичков, которые только входят в литературу. Встает вопрос о том, чтобы печатать книги еще более мелким шрифтом и без абзацев.
С другой стороны, во всех странах жалуются, что люди выбрасывают деньги на предметы, которые не являются необходимыми.
Каждое утро я обнаруживаю в своей почте большеформатные многостраничные проспекты, отпечатанные на великолепной бумаге. Проспекты, побуждающие людей приобретать массу бесполезных вещей.
Не пора ли положить конец этой инфляции типографской бумаги, которая подрывает начинания правительств?
Почтовая администрация жалуется на необходимость увеличивать число почтальонов, а тем приходится таскать все больший и больший груз. Почтовые ящики уже стали малы: большая часть проспектов имеет такой формат, что не пролезает в щель.
Экономисты уже неоднократно приговаривали общество потребления к гибели.
И что же? Зачем каждый божий день манить людей соблазнами? У меня впечатление, что с нами обращаются примерно как с рыбами. Нам суют под нос множество крючков, только наживлены они не настоящими дождевыми червяками и опарышами, а пластиковыми.
6 октября 1974
Я был одним из первых почитателей Фрейда[63] и Юнга[64] и остаюсь им до сих пор. К тому же в своем творчестве я безотчетно использовал некоторые их идеи, в частности о новом сознании и о родовом сознании…
В то же время я спрашиваю себя, не несут ли они отчасти ответственность за десакрализацию человеческой жизни. Отвергнув чувство вины, которое государство и его институты пытаются вбивать нам в головы, они предоставили нас самим себе, то есть нашим инстинктам.
Я еще помню время, когда политику или журналисту частенько приходилось драться на дуэли; Клемансо, например, проводил все утра в тире и фехтовальном зале, тренируясь в стрельбе из пистолета и в упражнениях со шпагой и саблей, чтобы иметь верную руку и меткий глаз.
Это никого не возмущало. Полиция закрывала на это глаза. Когда суд рассматривал дело об убийстве на дуэли, приговор был необычайно легким. То же самое было на протяжении всей истории. Люди восхищаются тремя мушкетерами, для которых убить было все равно что выпить стакан воды. Восхищаются христианской церковью, которая во время крестовых походов призывала убивать арабов, а потом учредила инквизицию.
Я вспоминаю ремни немецких солдат времен первой мировой войны. На их медных пряжках было выгравировано: «Gott mit uns» — «С нами бог». Французы не носили на животах такого девиза, но думали точно так же. Епископы и архиепископы с высоты кафедр и в пастырских посланиях призывали верующих убивать врагов.
А сейчас убивают, не испытывая угрызений совести…
Вчера в Симплонском туннеле по дороге из Милана в Женеву, где работало много итальянцев, обнаружен динамит в количестве, достаточном, чтобы взорвать все сооружение. Это было вовремя установлено в Домодоссоле, в нескольких километрах от туннеля, где взрыв поезда мог бы стать трагедией.
Трагедий больше нет. Все кажется нормальным. Даже психиатры, вызванные в суд, не решаются с уверенностью свидетельствовать о вменяемости или невменяемости преступника.
К чему мы придем завтра? Не знаю. История движется отнюдь не по прямой. Настроение у нее меняется внезапно, как у человека. И надолго. С другой стороны, у нее, как у айсберга, есть скрытая часть, которая намного превосходит видимую.
Я против агрессивности, я за уважение к жизни и к личности любого человека.
И как многие другие, я обязан задать себе вопрос: «Что я могу сделать?»
Всю свою жизнь я пытался влезть в шкуру другого человека, будь то человек с улицы или столп режима.
А в семьдесят один год признаюсь, что отказываюсь от этого.
Часом позже
С тревогой спрашиваю себя, а что, если в отдаленном или не очень отдаленном будущем право убивать — даже не на войне, даже не для защиты угнетенного меньшинства — станет частью Прав Человека?