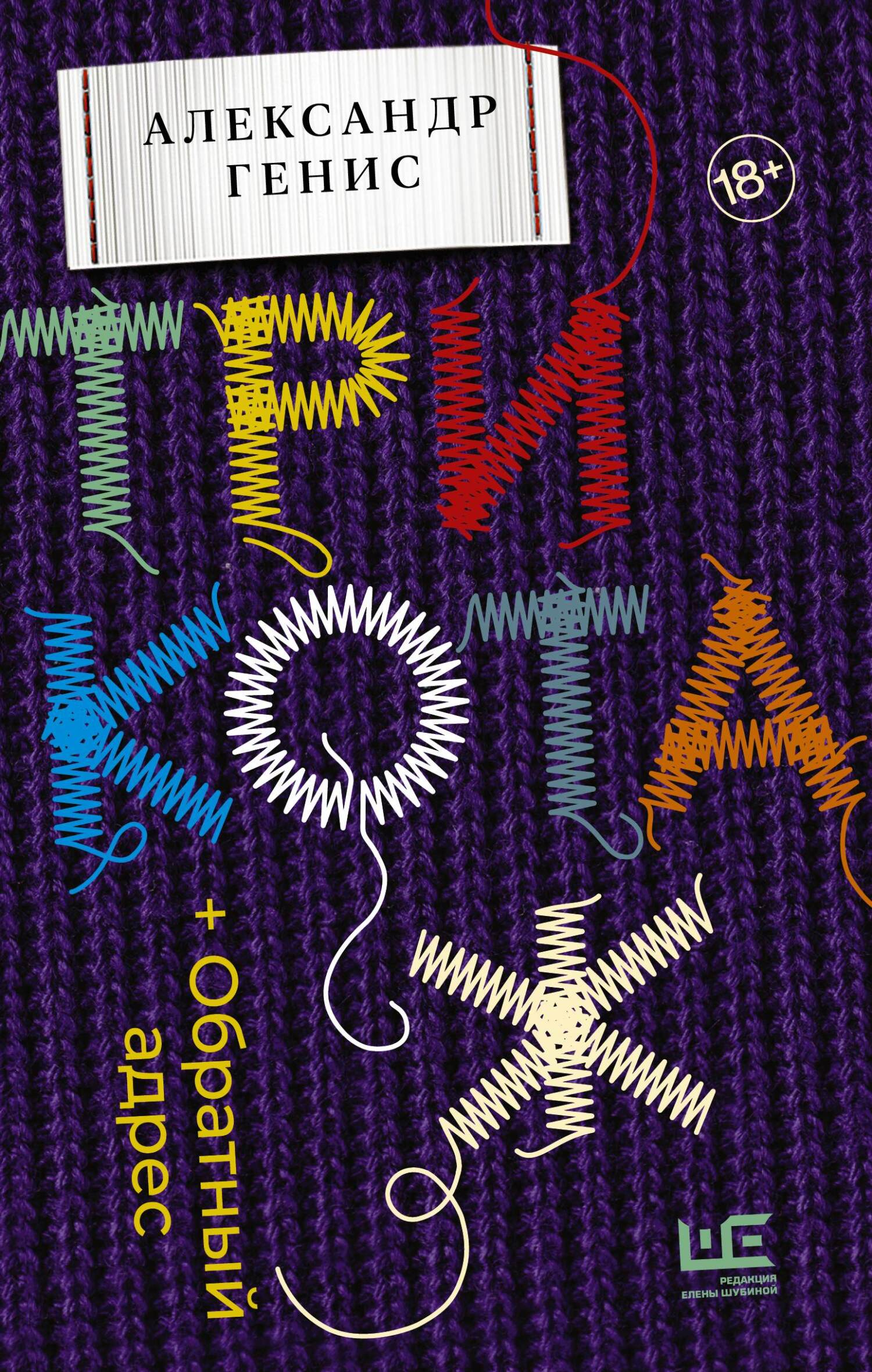называлось “горнить”). Здоровый, но неподвижный по шею, Толя жил свиданиями с девушкой, которую он пригласил на танго перед падением. Хотя они не успели даже познакомиться, она приходила из жалости, которая таяла от встречи к встрече. Толя ей и здоровым не нравился, а в больнице он стал неуживчивым и, время от времени забывая о своем положении, грозил начистить мне рыло. Приходя в палату, бабушка жалела его больше меня и делила передачи между нами поровну. Мы оба больше всего любили ее жареную картошку, но я уже мог держать вилку.
С каждым проведенным в больнице днем мои желания росли по экспоненте. Сперва я хотел сесть, потом – встать, вскоре – закурить, наконец размечтался о свидании. Но его пришлось отложить на двадцать лет. Пока я болел, Суламифь уехала в Израиль.
В остальном мне повезло. Менингит не оставил последствий, если не считать белого билета, с которым не брали ни в одну армию мира. Основанием служил записанный в медицинскую карту симптом: “Девиация языка влево”.
– Хорошо, что не вправо, – обрадовался отец.
1
Я выходил из нашего далеко не парадного подъезда и сворачивал налево, минуя книжный магазин с обманчивым названием Grāmatas. Заходить туда не было решительно никакого смысла. Из полезного там не торговали даже тетрадями. Книги же были бутафорскими, как еда в гастрономах Пхеньяна, и тоже непригодными к употреблению, во всяком случае, к чтению. Одна, написанная на латышском и не поддающаяся, словно этрусские надписи, переводу на современные языки, называлась “Ленин в Пскове”.
Про Псков не знаю, но в Риге Ленин однажды переночевал. Тем не менее памятник ему все равно поставили, и каждое 1 сентября мы приносили к постаменту цветы. К вечеру их искусно выкладывали в беспартийную икебану, которой, не поднимая глаз выше постамента, приходили любоваться горожане. В Риге даже алкоголики любили цветы и воровали их с кладбищ, где было так вкусно выпивать ранней осенью.
Киров тоже не имел отношения к Латвии, но его именем назвали красивую улицу, ведущую от моего дома к одноименному парку. Разбитый на земле, пожертвованной вдовой генерала Вермана, он занимал правильный квадрат и входил в мой ареал проживания, сколько себя помню. В ближнем углу росло диковинное дерево гинкго. Ровесник динозавров, оно служило знатным ориентиром, и, начитавшись приключенческих романов, я зарыл под ним клад. Поскольку я не проговорился, он до сих пор дожидается – меня или счастливого случая. Жаль, не помню, что зарыл.
Став старше, я перебрался к киоску у входа, где бывало пиво, обычно – зимой. В стужу его грели в чайнике на электрической плитке.
– Кружку с подогревом, – просили мы и тянули ее столько, сколько могли выдержать на морозе: на две сигареты.
По другую сторону улицы – диетическая столовая. От обыкновенных она отличалась простором. Под стол влезали бутылки с крепким вином, называвшимся “Волжским”, но изготовлявшимся на Рижском заводе шампанских вин. Ни к Волге, ни к шампанскому, ни к вину этот напиток не имел отношения, но это никого не беспокоило, более того – не удивляло.
Чуть дальше – магазин подписных изданий. Здесь покупались все собрания сочинений, заполнявшие каждый дом, где я бывал. Наша библиотека начиналась с Ленина, Сталина и Большой советской энциклопедии.
– Первые два многотомника, – объяснял мне отец, – держались для отмазки, последняя – из злорадства, ибо входящие в нее большевистские герои часто становились врагами народа. На Берии власти не выдержали. Когда его расстреляли, в дом пришли гости, прочно склеившие крамольные страницы.
От испорченной энциклопедии на всякий случай избавились, но инцидент не отучил моих родителей от любви к книгам в одинаковых обложках. Последним был Гоголь. За ним уже не они, а мы стояли всю ночь в веселой очереди.
У памятника Ленина дорога сворачивала на улицу Ленина, которую мы простодушно называли Бродвеем. Здесь жила власть. Слева – светская, справа – небесная: планетарий. Под спиленными крестами ложновизантийского собора велась наглядная атеистическая пропаганда. Детям и влюбленным показывали пустой космос, где негде было спрятаться Богу. Школьники смотрели вверх, парочки радовались темноте, остальные пили кофе в буфете, прозванном “Божье ухо”.
Чуть дальше стоял монументальный след былой свободы: Милда, медная дева с тремя – по числу латышских провинций – звездами во вскинутых руках. В гранитном цоколе памятника Свободе была маленькая, вечно запертая железная дверь. Детям рассказывали, что там держат живого фашиста.
Демонстративно повернувшись спиной к Ленину, Свобода с надеждой смотрела на Старую Ригу. От нового города ее отделял древний канал, в котором водились казараги. Колючая рыбка размером с кильку была категорически несъедобна, даже для кошек. Зато она была легкой добычей и ловилась на нитку с узелком вместо крючка.
Углубившись в соблазнительную паутину узких улиц, я каждый раз выбирал себе ту, что гармонировала с погодой, но всегда останавливался у Пороховой башни. Хорошо сохранившаяся, но не находящая себе применения в буржуазной Латвии, она стояла вакантной, пока в ней не поселились голуби.
– Предприимчивый балтийский немец с большой нацистской карьерой Альфред Розенберг, – гласит местная легенда, – начал с того, что откупил у отцов города скопившиеся в башне гуано и продал его с немалой выгодой.
Освободившаяся от птичьего помета башня стала со временем Музеем революции, где меня приняли в пионеры – и исключили из них за то, что я кривлялся в исторической достопримечательности.
Отсюда было уже совсем близко. Через Шведские ворота, мимо дома, где жил последний городской палач, – на булыжную площадь перед замком. Пройдя мимо миниатюрного Музея зарубежного искусст- ва, где хранились рыцарские доспехи и выставлялся Пикассо из коллекции Эренбурга, я протискивался в переулок, огибавший толстые бока приюта крестоносцев. За его многометровыми стенами с невиданной роскошью расположился Дворец пионеров. Возле реки я сворачивал в узкую калитку, поднимался по каменным ступеням и наконец входил в уставленную столами и зонтиками площадку за крепостной стеной. Это и было знаменитое кафе “Пилс”, что по-латышски значит “Замок”.
Я ходил в него каждый божий день, притворяясь, что живу на Западе, который пришел в “Пилс” лишь тогда, когда я навсегда покинул свой город.
2
На таком заработаешь, – саркастически заметил отец моей подруги.
Парикмахер по профессии и пьяница по неискоренимой душевной склонности, он пропивал зарплату, сидя у телевизора. Следя с равным вниманием и бесконечным терпением за речами Брежнева и прогнозом погоды, он все программы называл “хоккеем” и не отрывался от экрана, пока не кончалась выпивка.
В моем случае он был бесспорно прав, потому что в парикмахерскую я не