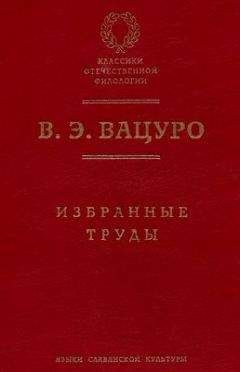Зато с Вяземским Баратынский сближался все больше и больше. Еще в мае Вяземский писал Пушкину с одушевлением, что в новом знакомце его «основа плотная и прекрасная» и что «чем более растираешь его, тем он лучше и сильнее пахнет»[169]. Этот энтузиазм не прошел у Вяземского и несколько месяцев спустя, когда Баратынский стал бывать у него запросто и вошел как свой человек в дружеский круг Вяземского: в дом Дениса Давыдова, еще прежде ему знакомого, к Ивану Ивановичу Дмитриеву, к которому, впрочем, относился с легкой, снисходительной иронией. Вяземский, конечно, привлекал его и в «Телеграф» — но постоянным сотрудником журнала Баратынский не сделался. Впрочем, он напечатал здесь несколько стихотворений, и в том числе две эпиграммы на Булгарина, своего давнего неприятеля, общего с Вяземским.
Круг литературных друзей должен был сомкнуться — но он не смыкался. «Мы все разбросаны», — писал Вяземский Тургеневу в июле 1826 года, совершенно так же, как Пушкин Вяземскому несколькими годами ранее, — «держимся только одною внутреннею верою, темными преданиями и каким-то чужестранством, чужеязычием в толпе, которая нас только что терпит…»[170] Да и как было объединяться в 1826 году?
Пушкин писал Вяземскому из Михайловского: «Нам надо завладеть одним журналом и царствовать самовластно и единовластно <…> Может быть, не Погодин, а я — буду хозяин нового журнала. Тогда, как ты хочешь, а уж Полевого ты пошлешь к матери в гузно»[171].
Вяземский отмалчивался, и Пушкин сожалел, что он остается «тверд и верен Телеграфу». Но он преувеличивал эту твердость. Вяземский соблюдал свои обязательства перед Полевым — и иначе поступать не мог, хотя легкие трения с издателем «Телеграфа» уже возникали у него в 1826 году, и он колебался[172]. В конце этого года он думал вместе с Баратынским об издании своего журнала, отличного и от «Московского вестника», и от «Московского телеграфа». Ни он, ни Баратынский не могли стать официально его издателями: подобно Пушкину, они были на подозрении у правительства и не получили бы разрешения. Они искали издателя нейтрального и благонамеренного — и нашли его в В. В. Измайлове.
Владимир Васильевич Измайлов принадлежал уходящему литературному поколению. В 1810-е годы имя его было хорошо известно; среди последователей Карамзина он был одним из самых примечательных, пока на сцену не выступил «Арзамас». Он писал стихи и «сентиментальные путешествия», знал хорошо французский, немецкий и даже английский язык, что было в те годы редкостью, и понимал по-латыни. Руссо был его кумиром, и в самой домашней жизни он старался следовать «Эмилю», что налагало на него некоторый отпечаток странности и, кажется, повредило его благополучию. В 1814 году он был издателем «Вестника Европы» — и приютил в нем стихи петербургских лицеистов, среди которых были Дельвиг и Пушкин; и в следующем же году дал им место в своем «Российском музеу-ме». Еще в 1818 году, когда начались споры об «Истории» Карамзина, он выступал в защиту учителя. В 1820 году он издал собрание своих сочинений и переводов — и тихо сошел со сцены; для него наступила приватная жизнь, старость и бедность. Ксенофонту Полевому он казался в конце 1820-х годов дряхлой развалиной: пришепетывающий старичок с отвисшей губой, старомодно сентиментальный, но всегда с долей высокомерия; впрочем, и Полевой не отказывал Измайлову в «честности и благонамеренности»[173].
Их был целый кружок, этих московских стариков, карамзинистов, доживавших литературный век. Они собирались у Дмитриева, у В. Л. Пушкина на вечера полулитературные, полудомашние; их связывали общие воспоминания, давнее знакомство или даже родство: В. В. Измайлов, постоянный и любимый собеседник Дмитриева, был в свойстве с Пушкиными. Они писали друг другу послания о домашних делах и стихотворные приглашения на обед. В этом кружке было и старшее поколение — князь П. И. Шаликов, Измайлов, и младшее, около сорока лет: М. Н. Макаров, Н. Д. Иванчин-Писарев, братья Глебовы, Александр и Дмитрий Петровичи. Они следили за литературными новинками: Дмитрий Глебов даже переводил Байрона, толкуя его в сентиментально-элегическом духе; Вяземского это раздражало, и он печатно советовал Глебову «не браться за Байрона»[174]. Они судили о литературе иной раз не без проницательности — но время ставило их вне литературных партий.
Именно поэтому Вяземский собирался издавать журнал вместе с В. В. Измайловым; самый выбор этого имени становился для него символическим. «Литератор честный, добросовестный и чистый», пусть заурядный, но ничем не запятнавший себя в век коммерческой словесности, он, казалось, мог бы возродить времена благородных литературных соревнований.
План был чистой иллюзией; журнал, конечно, не состоялся[175].
Измайлов издал альманах. Он собрал книжку за несколько месяцев, обратившись с просьбами к Пушкину, Баратынскому, к Оресту Сомову и Федору Глинке[176]. Все приглашенные откликнулись: век нынешний демонстрировал свое уважение веку минувшему. Книжка называлась «Литературный музеум» — и в самом деле стала таковым: запоздалый московский карамзинизм вспыхнул в ней едва ли не в последний раз. Николай Иванчин-Писарев поместил в ней «Речь в память историографу Российской империи» — цветок на могилу Карамзина, не слишком яркий, но пока чуть что не единственный. Был здесь и отрывок из письма самого Карамзина, и стихи Дмитриева, обращенные к Измайлову и посвященные памяти умершего друга. В. Л. Пушкин был одним из усердных вкладчиков, дал стихи и Дмитрий Глебов, и другие.
Пожалуй, менее прочих помогли Измайлову Вяземский и Баратынский.
Ни у Баратынского, ни у Вяземского не было свободных стихов: запасы их истощились — и от того пострадал Измайлов и «Северные цветы».
Вяземский прислал Дельвигу только одно стихотворение — «Нетленный цветок» — и несколько «выдержек из записной книжки»; Измайлову он тоже дал одно стихотворение и «выдержки».
От Баратынского Дельвиг получил перевод из Вольтера «Телема и Макар», «Песню» («Когда взойдет денница золотая») и маленькую эпиграмму («И ты поэт, и он поэт»). С двумя другими стихотворениями произошло недоразумение: они оказались напечатанными дважды и почти в одно и то же время.
Одно из этих стихотворений — посвящение А. А. Воейковой («Очарованье красоты…») Баратынский подарил В. В. Измайлову. Он чувствовал себя обязанным откликнуться на просьбу старого литератора, который просил у него отрывок из новой поэмы «Бал». «Бала» Баратынский дать не мог: поэма была не окончена и не отделана. Он предложил другое — стихи к А. Ф. Закревской: «Как много ты в немного дней…», но боялся, что их не пропустит цензура, как однажды уже случилось[177]. По-видимому, так и произошло: стихи эти в альманахе не появились, и, может быть, тогда же Баратынский заменил их стихами к Воейковой, забыв, что уже отдал их Дельвигу. Так это было или не так — но одно и то же стихотворение появилось в двух альманахах. И то же самое произошло с «Наядой», только что сделанным переводом из Шенье, который Вяземский сообщал А. Тургеневу и Жуковскому 6 января 1827 года[178]. Он вышел в «Северных цветах» и в «Северной лире».