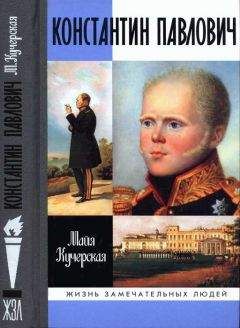КОНСТАНТИНОПОЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАШ!
Идея освободить Константинополь от турок витала в воздухе, начиная со дня падения города. С особым постоянством — над российскими просторами. О завоевании столицы Восточной Римской империи русские цари мечтали еще в XVII веке{21}. Азовские походы против Османской империи Петра I в 1695— 1696 годах, закончившиеся взятием турецкой крепости Азов, имели относительно скромные цели, однако именно Петр заложил основу средиземноморской политики императрицы Екатерины II и определил «стилистику обращений» России к балканским народам{22}.
Предпринятая при Екатерине первая Архипелагская экспедиция вновь оживила русские мечты о Царьграде. Идею поддержать восставшие православные народы Балканского полуострова (греков Пелопоннеса и островов Эгейского моря) и нанести удар Османской империи с тыла впервые высказал Григорий Орлов еще до объявления войны{23}. Алексей Орлов сформулировал цель будущей экспедиции еще яснее: «Если уж ехать, то ехать до Константинополя и освободить всех православных от ига тяжкого»{24}. Но, несмотря на сделанные успехи, прорваться к Константинополю и освободить православных российскому флоту не удалось. Зато в лице греков русские обрели надежных союзников — из греческих повстанцев сформировалось войско, активно помогавшее нашему флоту и особенно отличившееся в сражениях при Наварине и Чесме.
Первая Русско-турецкая война (1768—1774) велась также с постоянной мыслью о завоевании Царьграда. На исходе войны светлейший князь Григорий Александрович Потемкин прямо обратился к Екатерине с предложением — завоевать древнюю христианскую столицу, а попутно обеспечить себе давно желанный для России выход из Черного в Средиземное море{25}. Планы Потемкина совершенно совпадали с желаниями греков, которые отправляли Екатерине настоящие челобитные. «Паки и многажды просим, будьте нам избавители и спасители, будьте новая Елена и новый Константин, вы, Екатерина и Павел (до рождения Константина оставалось еще десять лет. — М. К.). Клянемся страшным именем Святые и присносущные Троицы, что мы и дети наши до скончания века всегда пребудем благонамеренными и послушными вашими подданными, со всякою верностию и усердию готовыми пролить кровь нашу по повелению Державнейшаго и Священнейшаго Вашего Величества и Августейших преемников престола вашего…»{26}И подписи, подписи — греческих воевод и капитанов.
В 1774 году война с турками завершилась русской победой и Кючук-Кайнарджийским миром, но освобождения Царьграда это не приблизило. Лишь после рождения внука Екатерина пожелала вспомнить о потемкинском предложении и увлечься им. И все воскликнули: «Константин!» Никакого третьего Рима, возвращаемся во второй, сажаем туда любимого внука, делаем его владыкой обновленной христианской империи, и пусть себе правит.
В 1779 году Потемкин дал в честь рождения Константина Павловича чудесный праздник с маскарадом, балетом, фейерверком и иллюминацией, завершившийся ужином в горной пещере, одетой «миртовыми и лавровыми деревьями, меж коими вились розы»{27}. Во время ужина слух императрицы Екатерины и ее приближенных услаждали шум сбегавшего с горы потока, а также хор певцов, исполнявший на греческом языке оду императрице и ее «блистающему красотой» второму внуку.
В кормилицы Константину взяли гречанку: пусть с молоком всасывает любовь к своему новому народу. Звали кормилицу правильно — Еленой; не кровная, так хоть молочная мать великого князя носила то же имя, что и мать первого, равно как и последнего византийского императора — Константин XI был тоже рожден Еленой. В попечители великому князю назначили грека и одописца Георгия Балдани, камердинером со временем стал тоже грек, Дмитрий Курута. С годами Курута превратится в ближайшего товарища и поверенного Константина и будет служить ему с преданностью раба. Когда нужно было, чтобы другие не поняли, великий князь говорил с Куру-той по-гречески, а в конце писем великому князю Курута неизменно выводил два-три слова на родном языке{28}.
В честь рождения Константина выковали памятную медаль — на лицевой стороне профиль императрицы, в короне и лавровом венке, на оборотной — три сестры: Вера, Надежда и Любовь с младенцем на руках. Он, глупыш, тянет ручки навстречу зрителям. Не понимает пока своего счастья — сзади плещется Черное море и ясно различим константинопольский собор Святой Софии. Круговая надпись на медали не оставляла сомнений в том, кого же тетешкает Любовь: «Великий кн. Константин Павлович родился в Царском Селе апреля 27-го дня 1779 года». Медаль была, что называется, памятной, в честь свершившегося события; еще две были приготовлены на случай грядущей победы России над Портой. И снова — на одной стороне государыня, «заступница верным», на другой — пожар! Морские волны бьются о древние царьградские стены, мечеть обваливается на глазах, а над всей этой разрухой сияет крест. По кругу вьется надпись: «Потщитеся и низринется». Внизу назван и адресат обращения: «Поборнику Православия»{29}.
Свои заказы получили и живописцы. Английский художник Ричард Бромптон написал двойной портрет: великих князей Александра и Константина. Юный Александр Павлович (названный, как известно, в честь Александра Невского, но с прицелом на славу Александра Македонского) мечом рассекал гордиев узел. На плечах брата, Константина, алела порфира византийских кесарей, в руке мальчик сжимал древко знамени, напоминающего «лабарум» Константина Великого. «Лабарум» венчался крестом, сиявшим как раз над головой юного Константина Павловича, — еще одно приветствие живописца мифологическому предку великого князя. Императрица необычайно ценила эту картину и заказала с нее несколько копий в миниатюре. Бромптон написал и другой портрет Константина, на котором он, почти младенец, был изображен греческим богом — Аполлоном.
Живописцам вторили поэты:
Ты Элладе дашь свободу,
Щастье возвратишь народу,
Утешенных тех сторон;
Распрострешь для муз покровы,
Храмы им возвигнешь новы,
Где сам будешь Аполлон{30}.
Конечно, первые российские стихотворцы обратились к античной мифологии задолго до эллинофильских жестов Екатерины, еще в петровскую и елизаветинскую эпохи, однако теперь расхожий прием обретал новый смысл. Античный антураж в стихах, посвященных великому князю, указывал: однажды культура древних греков станет для Константина Павловича своей. Вместе с тем в некоторых одах, посвященных Константину, языческая пестрота отступала прочь — жестокие бореи смолкали, сладостные зефиры делались недвижны, задумчивые наяды отправлялись на дно. Над «константиновскими» стихами поднималось зарево христианской веры, в них звучала тяжелая поступь пророчества.