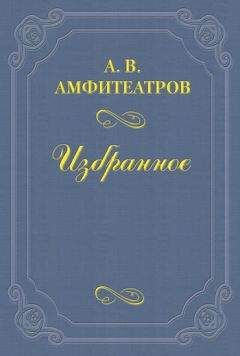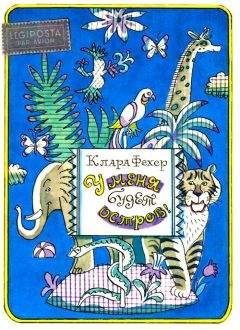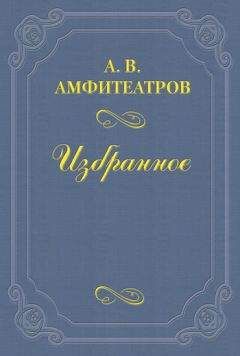Менее всего мог влиять на склад и направление мыслей Чехова А. С. Суворин. Если бы мне сказали наоборот: Чехов на Суворина, – я понял бы. Даже думаю, что это и бывало не раз. В «Маленьких письмах» Суворина, иногда так сверкающе великолепных, по всей вероятности, найдутся при тщательном их исследовании отблески чеховского света. Но чтобы Чехов подчинял свое общественное наблюдение и мысль суворинскому влиянию, я считаю столь же невероятным, как… Ну, я не знаю, кто сейчас в России самый знаменитый анатом! Павлов, что ли? Как вот ему – сочинить учебник анатомии под влиянием какого-нибудь блестящего художника-импрессиониста. Чехов как социальный мыслитель не мог быть под влиянием Суворина совсем не потому, чтобы между ним, врачом-восьмидесятником, слегка либеральным москвичом-скептиком эпохи, разочарованной и в революции, и в реакции, и в консерваторах, и в либералах, и А. С. Сувориным, главою тогдашнего «Нового Времени», с его политически приспособляющимся индифферентизмом, лежала в восьмидесятых и девяностых годах уж такая непроходимая пропасть. С Сувориным в то время отлично ладили люди гораздо более левые, чем Чехов. А с последним сблизиться ему было тем легче, что их роднил общий и совершенно однородный демократизм типических писателей-разночинцев. Я познакомился с Сувориным лет на семь позже, чем Чехов, уже близко к половине девяностых годов, когда газета его уже стремилась в правительственный фарватер и уже раздавался националистический девиз «Россия для русских», и вся сотрудническая молодежь в «Новом Времени», с А. А. Сувориным во главе, состояла из «государственников». Однако я живо помню, как иной раз-и далеко не редко – в старике, среди разговора, вспыхивал вдруг ярким огнем радикал-шестидесятник, и летели с его уст словечки и фразы не то что «либеральные», а, пожалуй, и анархические. Что он в душе был гораздо либеральнее многих молодых тогдашних «государственников», вышедших из развращающей школы гр. Д. А. Толстого – я нисколько в том не сомневаюсь. Да и имел тому неоднократные доказательства. И когда кто-нибудь из нас уж очень зарывался, старик осаживал: так нельзя. Это сердило, казалось непоследовательностью, даже неискренностью…
А в действительности старик – вечная жертва внутреннего раздвоения – просто жалел нас, молодых, рьяных и прямолинейных, опытным умом старого журналиста, памятовавшего из собственного прошлого, как часто литературное утро не отвечает за литературный вечер.
– Я напечатаю вашу статью, потому что она ярка, – сказал он мне однажды, – но когда-нибудь вы пожалеете, что ее напечатали.
А в другой раз он выставил мою статью уже из готовой полосы, и, когда я пришел «ругаться», Суворин возразил мне с большим чувством:
– Вы лучше поблагодарите меня, что я не позволил вам сломать себе шею.
И в обоих случаях он был прав. И наоборот, именно он отстоял мои «примирительные» корреспонденции из Польши в 1896 году, с которых начался мой первый разлад с «Новым Временем». Вообще, это оптический обман – сваливать на старика Суворина всю ответственность за реакционные струи в «Новом Времени» 90-х годов. Молодая редакция шла по пути государственно-охранительной идеи шагом и более последовательным в практике, и более повелительно формулированным в теории, чем нововременцы-старики.
Шестидесятная закваска, быть может, назло им самим делала их скептиками в идеях, которыми самонадеянно дышало поколение, воспитанное реакционными 80-ми годами. То, что молодой редакции казалось непременною программою, скептикам-индифферентам старой представлялось не более как пробным опытом: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Это была и хорошая, и дурная сторона стариков. Хорошая потому, что препятствовала им доходить до абсурдов, до которых сгоряча, идя по прямой линии чисто умозрительной и при том априорной политики, договаривались сотрудники-восьмидесятники. Дурная потому, что поддерживала в них способность к импрессионистическим компромиссам, которые так удобно приспособляли каждую идею к обстоятельствам, что она не могла дойти ни до категорического торжества, ни до категорического крушения. Молодую редакцию «Нового Времени» государственнический культ привел, в порядке весьма быстрой эволюции, в идейный тупик, откуда не было никакого выхода. Здесь оставалось: либо признать разумность тупика и застрять в нем, последовательно принимая всю логику торжествующей реакции и участвуя в ней (Сигма, Энгельгардт), либо признать ошибочною уже исходную точку направления, которое тебя в этот тупик привело, и резко и решительно повернуть в сторону противоположную (Потапенко и я в 1899 году, А. А. Суворин с редакцией «Руси» в 1903). Старики, и во главе их сам А. С. Суворин, от подобных острых и тяжелых переломов были застрахованы именно своим скептическим импрессионизмом, поразительно отзывчивым и зыбким, и с широчайшею амплитудою. В ней преоригинально встречались и предобродушно уживались «увенчание здания» с анархизмом, религиозный идеализм с нигилизмом шестидесятых годов и воинствующий национализм с самым широким культурным космополитизмом. Трудно мне представить себе человека более русского, как в положительных, так и в отрицательных чертах характера, чем А. С. Суворин. А в то же время не много на своем веку встречал я и таких европейских людей, с его чисто западническим самообразованием, с любовью к западной культуре, к западным народам, западному искусству, с энтузиазмом к Франции, Италии.
И вот, например, эта черта чрезвычайно связала его с Чеховым, которого мы еще в «Будильнике» дразнили «западником Чехонте». Потому что, при совершенной своей тогдашней невинности по части иностранных языков, он – также из русских русский человек, настолько русский, что иностранцы его очень туго понимают – он, в то же время, умудрялся уже смолоду быть, в самом деле, типическим, насквозь западником в каждом произнесенном слове, в каждой написанной строке.
– «Вуй!» – крикнул западник Чехонте, – трунил над ним Курепин, описывая юбилей «Будильника», и уверял, будто «вуй» – единственное французское слово, которое нашему западнику известно… Шутка была преувеличена, но, конечно, мы все, питомцы гимназии семидесятых годов, очень дурно знали языки. А последние шестидесятники, как Курепин, весьма нас тем «пиявили».
Престранное это дело на Руси. Почти все типические, убежденные, ярые, с пеною у рта, можно сказать, ее азиаты – люди, чуть не с колыбели блистательно владеющие тремя-четырьмя западными языками, получившие, в полном смысле слова, европейское воспитание и даже иногда до старости лет предпочитающие русской речи французскую или английскую, потому что на родном языке они изъясняются не только с меньшим красноречием, но иногда даже не весьма бойко и правильно. А европеец русский, тоже почти всегда, достиг до практического и непосредственного знакомства с людьми, литературою и культурою Европы – хорошо еще, если в поздней юности, а то и в весьма зрелые годы. И почти никогда не говорит сколько-нибудь хорошо ни на одном языке, кроме родного. Кажется, этот контраст свойственен исключительно русскому обществу. По крайней мере, я не встречал его в других народах настолько типически выраженным на обе стороны. В таких, например, полярных представителях, как образованнейший, утонченнейший, начитаннейший барин-парижанин К. А. Скальковский – однако кругом азиат; и разночинец, в 26 лет принявшийся самообразованием чинить прорехи казенной школы и профессиональных университетских лет, далеко не блестяще воспитанный, совсем уж не утонченный и не так много читавший Антон Чехов – однако кругом европеец!..