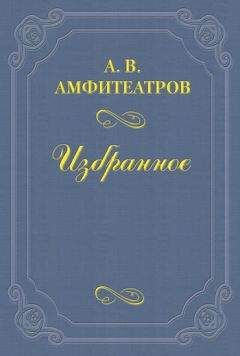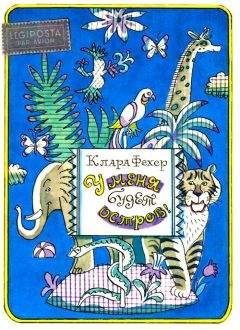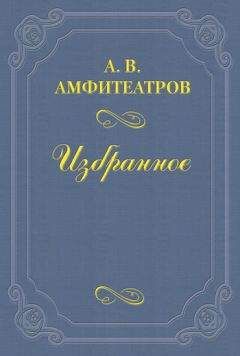Чехов не был слеп в отношении Суворина. Он видел старика насквозь и не скрывал этого ни от других, ни от него. И любил его такого, как видел, отнюдь не прикрашивая и не идеализируя.
– Суворин вас любит, – сказал он мне в 1895 году. – Это хорошо. Слушайте же, он не худой старик.
Суворин видел Чехова лишь настолько, насколько тот позволял проникать в себя. Вообще-то этот разрешенный слой вряд ли был глубок. Чехов был не из тех, кто любит конфиденции. Но иногда он внезапно отворял храм души своей – именно перед Сувориным. О двух таких случаях я знаю непосредственно от Алексея Сергеевича. Он, со слезами на глазах, рассказывал, что, как ни высоко ценил он и ставил Антона Павловича, но только вот в подобных двух беседах – однажды в Петрограде и однажды в Венеции – понял он во весь рост все величие и всю трагическую глубину этого удивительного человека…
Оставим Чехову чеховское, а Суворину – суворинское и не будем несправедливы ни к тому, ни к другому. Ни Суворин не был бесом-соблазнителем, ни Чехов – наивно соблазненным ангелом. Оба они и лучше, и хуже сложившихся их репутаций, в которые и справа, и слева всякий охочий доброволец валит столько субъективной мифологии, сколько подскажет фантазия.
Суворин хотел добра Чехову и много сделал ему добра. Это – факт. Что же касается отрицательных черт, которые иные, с большими натяжками, невесть зачем, изыскивают в Чехове, стремясь обобщить их как результат «суворинского влияния», то, повторяю, все это – неудачные опыты политической полемики, а не литературного и идейного исследования.
Когда я мысленно проверяю далеко позади оставшиеся образы двух писателей, которым посвящена эта статья, странное и неожиданное получается противоположение. В каких бы моментах ни вспоминался мне Суворин – этот кипучий, газетный, злободневный человек, казалось бы, зубы съевший на житейской практике, неугомонный создатель громадных практических предприятий, необычайный умейник уживаться с нужными людьми, угадывать нужные моменты, и проч., и проч., – тем не менее он представляется мне, в конце концов, – и прежде всего, и после всего, – типическим русским мечтателем. Даже, пожалуй, прямо-таки Альнаскаром. Ему лишь, в отличие от подлинного Альнаскара, везло, необыкновенное счастье не только строить воздушные замки, очередные планы которых вплывали в его капризную, ищущую, беспокойную фантазию, но и осуществлять их. Однако какого-то главного своего замка, ради которого он на свет родился и жил, он так-таки и не выстроил. Больше того: может быть, даже и плана его не видал и себе не представлял, и в этом-то было его смутное, беспокойное горе, и этим обусловливалось его неустойчивое метание от факта к факту, от взгляда к взгляду, от человека к человеку. Это был человек, сотканный из мечты – искатель мечтою.
Совсем иное Чехов. Веселым ли юнцом, грустным ли больным в зрелых летах, он, великий изобразитель мечтателей, сам никогда не был мечтателем. Могущественный многодум, анализатор и систематик, он обладал умом исследователя, настолько точным и категорическим, что неумолимо строгая логическая работа превратила, наконец, его многодумье в собирательное однодумье. И однодумье это продиктовало для русского обывательского быта железные формулы, их же не прейдеши. Суворин хотел многого, но, по существу, не знал, чего он истинно хочет. Когда это желанное истинное вдруг, бывало, ненароком взглянет ему в глаза: вот оно я! – он не верил или полуверил. А то просто пугался и притворялся, будто не верит. Чехов всегда изумительно тверд и ясно знает, чего он хочет, во что он верит, что может сказать, что должен сказать. В этом смысле перед ним неожиданностей нет и быть не может. Всякому факту он глядит прямо в глаза, исследует его, классифицирует, вводит его, как новый препарат, в коллекцию своей атомистической лаборатории, впредь до теоретического обобщения. Отсюда – чеховская бесстрашная грусть: основная черта его творчества. Оба они были поразительно способны к наблюдению, но и наблюдение их было столько же различно, как характеры. В Суворине неугомонно билась жилка старого отметчика, охотника за явлением, каждый раз хватавшего факт как нечто новое, и часто встречающего его по-новому, совершенно вразрез впечатлению прежней с ним встречи. Он – наблюдатель-субъективист и импрессионист. Чехов – один из глубочайших, может быть, глубочайший из русских наблюдатель-объективист – шел через факт к закону жизни. Он – великий обобщитель ее, проникающий и устанавливающий ее органическое единство в прозрачной дифференциации ее явлений. На лестнице этого собирательного анализа он дошел до очень высоких ступеней, – и смею даже утверждать, – до ступеней, трагических для себя самого. Недаром же он под конец жизни стал подумывать об «Экклезиасте». Суворин, умерший на восьмом десятке лет, если бы он прожил еще столько же, все-таки дня не вынес бы без того, чтобы не занести на бумагу хоть несколько строчек непосредственных впечатлений жизни и не вести о них страстного разговора. Антон Чехов, едва перейдя на пятый десяток лет, почти перестал разговаривать и писать. И уж, конечно, не по истощению творческой мысли, так могущественно раскрывшейся в лебединой песне Чехова – «Вишневом саде», а потому, что мысль его с каждым днем приобретала все более определенную обобщающую категоричность. И последняя осенила Чехова таким мудрым и глубоким провидением жизни, что второстепенные признаки явлений уже перестали быть интересными прозорливому творцу как подразумеваемые сами собой. К этому периоду жизни Чехова относится его трагическая шутка о повести, из которой, написав ее, он стал удалять ненужные подробности и постепенными сокращениями довел ее до объема в одну строчку.
«Он и она полюбили друг друга, женились и были несчастны».
Если принять знаменитое Павлово деление рода человеческого, как познавательной жизни, на два разряда: иудеев, которые чуда ищут, и эллинов, которые ищут мудрости, то Суворин и Чехов распределяются по этим полюсам совершенно твердо. Суворин, с его пылкою жадностью к новому явлению, новому факту, новому лицу, новой книге, весь пламеневший любопытством и смутными, редко самому ему внятными в полной мере ожиданиями, должен быть поставлен, конечно, на первый полюс. Хотя он и не весьма любил евреев (однако совсем не так сердито и убежденно, как повествуют враждебные легенды), но психический импрессионизм сближал его с мечтателями, по Павлу, иудейской категории: ищущими в жизни чуда, которое вот придет откуда-то извне и осветит жизнь. Чехов – весь на эллинском полюсе. Он знает, что чудес нет и не бывает, что о небе в алмазах могут мечтать Соня, Вершинин, Аня с Трофимовым, но не он, ищущий мудрости и находящий ее в ежеминутных печальных откровениях жизни о железнозаконном ее единообразии…