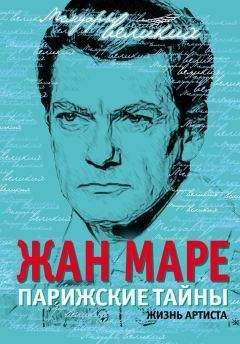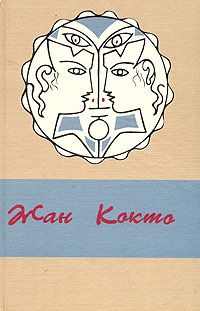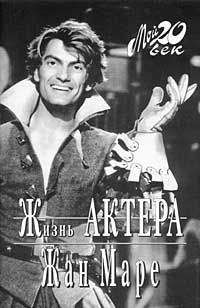Мы с Мулу по-настоящему привязались друг к другу. Я не стеснял его свободу. Он охотился ночью, возвращался утром. Усталый и пропахший перьями, он прыгал ко мне на руки, бурно выражая свою радость.
Мы тоже охотились. По крайней мере, мои товарищи. Часто мы ели белок, я готовил их с белыми грибами. Свою порцию мяса я отдавал Мулу, а сам ел овощи.
Накануне демобилизации я каким-то чудом получил письмо от Жана. Он находился в Перпиньяне. Чтобы убедить Жана уехать из Парижа, импресарио Шарля Трене господин Бретон пригласил его в Перпиньян, в свое имение с замком и огромным парком. Ехали на машине. По дороге замок превращался в большой дом, затем в обычный дом, затем в маленький дом, затем в квартиру, затем в маленькую квартиру, и, само собой разумеется, парк превращался в сад, затем оказалось, что сада нет вовсе… В конце концов они приехали в маленькую однокомнатную квартиру, где Жана и поместить-то негде. Супруги Бретон поручили его заботам очаровательной семьи врача, доктора Николо. Эта семья обожала людей искусства: художников, скульпторов, музыкантов, писателей, поэтов. Они охотно согласились приютить Жана и сразу же полюбили его. У них трое чудесных детей: Жак, шестнадцати лет, Симона, пятнадцати, Бернар, десяти, и все трое один красивее другого. Они и меня ждут с радостью.
Я демобилизовался, распрощавшись с армией или тем, что от нее осталось. Уезжал я в голубых брюках из «Трудных родителей», которые носил вместо форменных (в армии я всегда был одет несколько странно), в рубашке от смокинга и в меховом жилете из опоссума, подарке мадемуазель Шанель. Его цвет – смесь белого, серо-коричневого и темно-серого, точно такой же, как у Мулу. Мы с ним были похожи на персонажей книги «Без семьи».
В Перпиньяне, окруженные нежностью и вниманием семьи Николо, мы были счастливы. Жан писал, рисовал. Его рисунки того времени своей законченностью и точностью деталей немного напоминают рисунки Энгра. Он написал портреты всех членов семьи. Я начал писать портрет госпожи Николо.
Друзья госпожи Николо пригласили нас в свое имение в Верне-ле-Бэн. Там я уходил рисовать в горы. Я полюбил старый каштан. Местные жители утверждали, что ему тысяча лет. Чтобы его обхватить, три человека должны были взяться за руки. Молния расколола его на две части. Внутри дерево было черным, листья ярко-зеленого цвета.
Я писал этот каштан на фоне радужного пейзажа. Писал я очень медленно, каждый день на одном и том же месте. Вечером я возвращался в дом наших друзей Николо. Они захотели увидеть, как подвигается работа… и обнаружили, что дупло в дереве – вылитый портрет Кокто; я думал, что это просто моя фантазия.
На следующий день мы убедились, что я ничего не придумал: форма дупла действительно напоминала портрет Жана…
Через некоторое время после возвращения в Париж мы узнали из газет, что в Пиренеях был подземный толчок. Вода с гор залила все, вплоть до Перпиньяна. Наши друзья Николо сообщили, что мое дерево перестало существовать.
В Перпиньяне, ожидая возвращения в Париж, я мечтал только о театре.
Стоя ночами на посту во время своей службы в армии, я работал над ролью Нерона, постоянно вспоминая слова Маргариты Жамуа: «Вы никогда больше ничего не сможете сыграть, кроме “Трудных родителей”». Как бы споря с ней, я выбрал роль, совершенно противоположную своему дарованию.
Меня восхищал в Расине безукоризненно точный, простой текст, наполненный богатым внутренним содержанием. Меня удивляло, что актеры произносят эти стихи нараспев, украшают их столькими фиоритурами, что уже непонятно, о чем идет речь. Я испытывал огромную радость, когда мне казалось, что я нашел что-то новое, и дрожал при мысли, что скажут об этом Кокто и Ивонна де Бре.
Я решил поставить пьесу в свободной зоне и поехал в Монпелье к Вилару предложить ему роль Нарцисса (как вы помните, мы познакомились на курсах Дюллена, где оба были учениками). Он согласился. Затем я поехал повидать других актеров в Марселе.
В тот вечер Мулу побежал за какой-то собачкой и не вернулся домой. Я позвонил из Марселя. Он был уже дома и всюду искал меня. Одновременно я узнал, что Жан получил телеграмму от Капгра, он просил возобновить постановку «Трудных родителей».
Я отказываюсь от своего проекта постановки «Британика». Мы едем в Париж. Двое суток пути, в течение которых я спал на багажной полке вместе с Мулу. Хотя мы ехали из Перпиньяна, поезд прибыл на Восточный вокзал. Странно!
Париж! Мы с Жаном охвачены таким волнением, что на глаза наворачиваются слезы.
Мы возвращаемся в свою квартиру. Я открываю ее для себя: она на улице Монпансье. Перед оккупацией Жан уже не мог отапливать нашу квартиру на площади Мадлен. Он нашел квартиру поменьше возле Пале-Рояля. Она не была благоустроена, но спать там было можно. Пока ее приводили в порядок, он жил в отеле «Божоле», где находились также Бебе и Борис.
Квартира на улице Монпансье находилась в чердачном помещении с полукруглыми окнами. Две комнаты – одна большая, одна маленькая (Жан отдал мне большую), ванная комната, коридор, наконец, маленькая комната, примыкающая к той, которую должен был занимать Жан. Эта квартира очень быстро превратилась в место, которое я полюбил больше всего на свете. Затратив совсем немного средств, мы благоустроили ее. Пол покрывал красный палас, в том числе в ванной и в кухне. В последней вдоль стен стояли шкафы, выкрашенные под красное дерево. Ширма, рама которой была сделана из красного дерева с черными наконечниками, выделявшимися на темно-зеленой шторной ткани, скрывала нагревательную систему. Круглый садовый стол и садовые кресла, украденные мною на Елисейских полях, и то и другое выкрашено в черный цвет.
Моя комната была голубой, с большим ступенчатым шкафом, стоявшим на одном уровне с подоконником для удобства Мулу. Книжные шкафы, белые снаружи и темно-зеленые внутри, замечательный комод эпохи Людовика XVI, подарок матери Жана. Бюст Кокто работы Феноза на белой колонне. Другая колонна из черного мрамора служила подставкой для большого фонаря в мавританском стиле. Украденная в Тулоне железная рука в нише над моей кроватью, покрытой голубой тканью.
На стенах висели рисунки Жана и Бебе, одна моя картина, потому что других у меня не было.
Маленькая комната Жана была обита красным бархатом. Стена с окном в форме полумесяца и по бокам две параллельно расположенные панели, напоминавшие черные школьные доски. Жан специально заказал их в надежде, что Пикассо сделает на них рисунки мелом. Пикассо никогда не сделал рисунков. Изгиб стены скрывал потайную дверь в соседнюю комнату, где Жан собирался курить опиум. Он так ни разу там и не курил.
Нам запретили возобновить постановку «Трудных родителей».