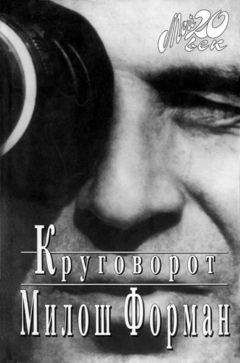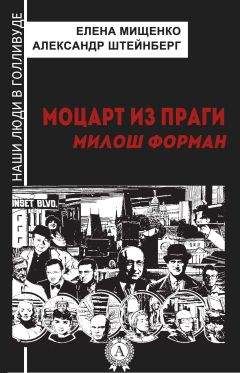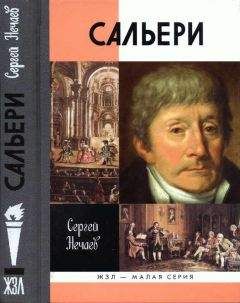К тому времени когда проект был принят к производству, нам почти что удалось вернуться к первоначальному варианту сценария. Я должен был стать постановщиком фильма в творческом объединении Шебора−Бора и жаждал воспользоваться предоставившимся шансом, когда внезапно нам сообщили, что весь проект забраковали. Решение пришло из инстанций, которые не привыкли давать объяснение своим поступкам, и мне пришлось долго докапываться до-причин происшедшего.
Партийный лидер, президент Антонин Новотный, много слушал радио и однажды узнал из программы новостей, что на киностудии «Баррандов» готовится экранизация небольшого рассказа Иозефа Шкворецкого. Это имя насторожило его, Новотный вспомнил о «Трусах» и взбеленился. Он решил, что кто-то осмеливается противоречить его распоряжениям и собирается снимать фильм по запрещенному произведению. Немедленно был отдан приказ о прекращении работ по нашему проекту.
Мой «источник информации» уверял, что Новотный просто перепутал два разных произведения Шкворецкого, и я решил сделать все возможное, чтобы положить конец этому недоразумению. В отличие от первого романа наш рассказ был официально напечатан, и никаких «идеологических» возражений против него не выдвигалось, что давало мне хорошие аргументы. Мне удалось пробиться через несколько кабинетов к чиновнику отдела культуры компартии. Этот мрачный товарищ считался очень влиятельной фигурой, но меня поразило, что он был относительно здравомыслящим коммунистом. Он выслушал меня с определенной симпатией, а потом окончательно похоронил мой проект, сделав при этом замечание, которое одно может сказать о природе нашего бесклассового общества больше, чем многие книжные тома:
— Товарищ Форман, позвольте дать вам маленький дружеский совет. Забудьте обо всем этом деле и продолжайте работать. Может быть, все ваши выводы совершенно верны, вы очень убедительны. Но поверьте, даже если вы правы на все сто процентов, никто никогда не пойдет и не скажет товарищу президенту, что он не прав.
Каждый человек накапливает за свою жизнь какие-то случайные наблюдения и незначительные выводы, не зная, сможет ли он когда-нибудь ими воспользоваться. Большинство из них так и остаются невостребованными, но сплошь и рядом бывает так, что вы можете лучше разобраться в новой ситуации, вспомнив о чем-то, что запало вам в голову много лет назад. В конце пятидесятых годов в клинике «Катержинки», в которой было большое психиатрическое отделение, я открыл для себя всю банальность сумасшествия. Я не обращался к этим впечатлениям до 1975 года, когда снимал в Сейлеме, штат Орегон, «Пролетая над гнездом кукушки».
Я всегда был ипохондриком, потому что, оглядываясь сейчас на свою жизнь, я вижу в ней только череду потрясающих удач и жду, когда настанет время расплачиваться за них. Если я узнаю из выпуска новостей о новом заболевании или эпидемии, я всегда думаю: «Ага! Этим и кончится!» Сразу же после этого я должен обзавестись учебником с описанием симптомов этой болезни.
В конце пятидесятых годов самым модным нездоровьем в Чехословакии было нервное истощение, потому что чувствительные люди, у которых были нелады с госбезопасностью, пользовались этим диагнозом, чтобы избежать преследований. Нервное истощение снимало с вас ответственность за ваши поступки. В то время все в моей жизни шло не так. Я разрушил собственный брак, меня выгнали с работы, я не мог снимать кино. Впервые в жизни я чувствовал себя проигравшим, и мое нервное состояние заставило меня искать помощи в «Катержинках». У меня были знакомые в этой клинике, поэтому в течение месяца я приходил туда раз в неделю и мне вводили в вену какое-то очень успокаивающее снадобье. Может быть, это был просто валиум, но я чувствовал себя отлично.
В «Катержинках» не было отдельных палат, поэтому я приходил, переодевался в больничный халат и ложился на одну из сорока коек, впихнутых в одну комнату. Медсестра втыкала мне в руку иглу, по прозрачным трубочкам в меня текло лекарство, а я лежал и наблюдал за больными.
Это наблюдение за психиатрическим отделением быстро изменило мое театральное представление о душевнобольных, которое я составил по фильмам. Я думал, что сумасшедшие совершают разные странные поступки, но на самом деле они старались быть совершенно нормальными. Просто у них это почему-то не получалось. Банальность повседневной жизни распространяется и на сумасшествие. Однажды я лежал, прикованный к прибору для внутривенных инъекций в глубине палаты, когда с одной из соседних коек поднялся молодой человек. Это был крепкого сложения парень лет двадцати пяти, с располагающей улыбкой. Он был одет в клетчатый банный халат поверх полосатой пижамы, но при этом его грязноватые волосы были зачесаны назад с определенным шиком.
— Я слышал, ты работаешь в кино, — сказал он.
— Да, раньше работал.
— Я просто хочу объяснить тебе, что я оказался здесь из-за этого проклятого кино.
— Н-ну, я понимаю.
— Черт побери! Да у меня жена актриса, и она меня так любит, что ей только того и надо, что быть все время со мной. Так они меня сюда заперли, чтобы снимать ее в новой картине, потому что они все хотят с ней спать, и я не могу выйти из этого бардака, чтоб его! А ты им скажи, что я все равно отсюда выберусь и что я все знаю про то, что они с ней делают! Ты скажи этим сукиным детям, что я из этого клоповника выйду, а когда выйду, я их найду! Я люблю мою жену! Ты ее знаешь?
Он говорил это так связно, что я почти поверил во всю эту историю и пожалел его.
— А как ее зовут? — спросил я.
— Яна Брейхова!
Этого я уж никак не ожидал, поэтому я замер и уставился на него.
— Ах, так ты ее знаешь! — завопил парень. — Знаешь, черт тебя дери?
— Кто же не знает Яну Брейхову, — согласился я.
— Точно! Так ты скажи своим дружкам! Ты всем этим киношникам скажи! — заорал он, потом стукнул кулаком по спинке моей кровати с такой силой, что она подпрыгнула, и ушел, грозно поглядывая по сторонам. Я очень быстро излечился от своей хвори.
Оглядываясь на мои первые фильмы, я могу сказать, что все они посвящены попытке ясного осознания жизни. Тогда я не понимал этого, но, вероятно, именно такова была моя подсознательная реакция на радоковскую стилизованность, театральность и изысканность. В искусстве Радока блистательно использовались слово, музыка, рисунок, балет, последние достижения техники. Он как будто брал зрителя в путешествие на Луну: от впечатлений захватывало дух, они не были похожи ни на что из ранее испытанного, но для участия в этом путешествии нужно было основательно экипироваться. После путешествий с Радоком мне хотелось просто прогуляться вокруг дома, посмотреть на окружающую меня жизнь, увидеть, что же в ней происходит.