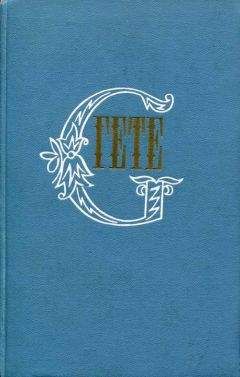Во всем, что касалось завершения, отец проявлял недюжинное упорство. Однажды начатое должно было быть завершено, даже если по ходу дела несомненно выяснялось, что это — бессмысленное, скучное, раздражающее, а главное, бесполезное занятие. Завершение, казалось, было для него единственной целью, упорство — единственной добродетелью. Когда в долгие зимние вечера мы начинали читать в семейном кругу какую-нибудь книгу, то были обязаны дочитать ее до конца, даже если она всех нас повергала в уныние, и отец первый же начинал зевать. Мне помнится одна зима, когда нам было вменено в обязанность одолеть «Историю пап» Боуэра. Тоску мы испытывали смертную, ибо в описании всех этих церковных дел не было ничего, что могло бы заинтересовать детей или молодежь. Впрочем, несмотря на мое невнимание и неохоту, что-то от этого чтения в моей памяти все же удержалось и впоследствии не раз пригождалось мне.
Несмотря на все эти посторонние занятия и работу, сменявшие друг друга так быстро, что трудно было опомниться и сообразить, насколько они нужны и полезны, мой отец не терял из виду главной цели. Он силился направить мою память, мою способность схватывать и комбинировать в юридическое русло и даже снабдил меня для этой цели своего рода катехизисом — маленькой книжицей Гоппе, воспроизводящей по форме и содержанию «Институции». Быстро заучив наизусть вопросы и ответы, я мог одинаково успешно выполнять роль экзаменатора и экзаменуемого, а так как в те времена на уроках закона божия одна из главных задач состояла в том, чтобы научиться быстро открывать Библию в указанном месте, то отец требовал от меня того же в отношении «Corpus juris», в котором я, кстати сказать, быстро понаторел. Он хотел пойти дальше и дал мне маленького Струве, но тут дело застопорилось. Форма, в которой была написана эта книга, не позволяла начинающему самому в ней разобраться, а лекторская манера отца была слишком скована, чтобы увлечь меня.
Не только военная атмосфера, в которой мы пребывали вот уже несколько лет, но и сама жизнь, а также чтение повестей и романов с полной очевидностью убеждали нас, что в ряде случаев законы безмолвствуют и не приходят на помощь отдельному человеку, предоставляя ему на свой страх и риск выпутываться из беды. Мы уже подросли и, по старому обычаю, должны были, наряду с другими предметами, обучаться фехтованию и верховой езде, чтобы при случае суметь за себя постоять и в седле не походить на робкого неофита. Что касается первого пункта, то предстоящие уроки только радовали нас, ведь мы уже давно обзавелись рапирами из ореховых прутьев и сплели себе аккуратные ивовые корзиночки для защиты рук. Теперь нам уже полагались настоящие стальные клинки, орудуя коими мы поднимали отчаянный стук.
У нас во Франкфурте было два учителя фехтования: пожилой солидный немец, строго и рачительно занимавшийся своим делом, и француз, стремившийся снискать известность искусным натиском и ретировкой, а также легкими и быстрыми ударами, каковые он неизменно сопровождал разными вскриками и возгласами. Мнения о том, чья метода лучше, разделились. Маленькая компания, с которой мне предстояло заниматься, была препоручена французу, и мы вскоре привыкли наступать и ретироваться, делать выпады и отступы, издавая положенные возгласы. Многие из наших знакомых предпочли, однако, немецкого фехтовальщика, а следовательно, занимались по прямо противоположной методе. Эти различные навыки в столь важных упражнениях, уверенность каждого в отдельности, что его учитель лучше, породили настоящий раскол между молодыми людьми приблизительно одного возраста, так что еще немного — и уроки фехтования вызвали бы форменное побоище. Мы ведь спорили не только на словах, но и на рапирах, и, чтобы положить конец этой распре, было устроено примерное сражение между обоими маэстро, исход которого, право же, не стоит подробно описывать. Немец, стоя в своей позиции как стена, не помышлял ни о чем, кроме своей выгоды, и умелыми ударами по рукоятке рапиры несколько раз обезоружил противника. Тот, однако, заявил, что это еще ничего не доказывает, и продолжал бой, утомляя своей подвижностью запыхавшегося немца. Он нанес немцу несколько сокрушительных ударов, которые в настоящем бою спровадили бы на тот свет его самого.
В общем, это единоборство ничего не решило и ничего не исправило, только что некоторые, и я в том числе, предпочли земляка французу. Но я уже слишком многое перенял у прежнего учителя, и новому понадобился долгий срок, чтобы отучить меня от старых навыков. К тому же он не слишком долюбливал нас, ренегатов, неизменно ставя нам в пример исконных своих учеников.
С верховой ездой дело обстояло еще хуже. Случайно вышло, что на манеж меня послали осенью, то есть в сырое и холодное время года. Педантическое отношение к этому прекрасному искусству было мне в высшей степени противно. Во главу угла ставилась крепкая посадка в седле, но никто не мог нам разъяснить, в чем тут фокус, ибо без стремян мы скользили взад и вперед по крупу лошади. Похоже было, что все обучение сводится к вымогательству денег и распеканию учеников. Забудешь ли надеть или снять подгубник, уронишь ли хлыст или шляпу, за любое упущение и любую неудачу с нас взимались деньги и нас же еще осыпали градом насмешек. Все это, вместе взятое, повергало меня в дурнейшее настроение, тем паче что и самый манеж был мне невыносимо противен. Скверное огромное помещение, пропитанное то сыростью, то пылью, холод, гнилостный запах претили мне, вдобавок наш шталмейстер давал лучших лошадей своим любимчикам, сумевшим его прельстить роскошными завтраками и прочими дарами, возможно, впрочем, что и своею ловкостью; мне же доставались манежные клячи. К тому же ему нравилось заставлять меня подолгу дожидаться; в общем он всячески надо мной издевался, так что за делом, которое могло бы быть самым веселым на свете, я провел пренеприятные часы. Более того, воспоминания об этом тяжелом времени до такой степени живы во мне, что я, став впоследствии страстным и смелым наездником, днями, даже неделями не слезавшим с коня, всегда тщательно избегал крытых манежей, стараясь оставаться в них не более нескольких минут. Впрочем, нам нередко случалось усваивать основы какого-нибудь законченного искусства не только с трудом, но и с истинным мучением. Когда в позднейшие времена люди поняли наконец, сколь это тягостно и вредно, возникла новая воспитательная максима, согласно которой все науки должны преподноситься юношеству как нечто веселое, приятное и легко усваиваемое, а это, в свою очередь, возымело отрицательные последствия.
С приближением весны у нас все опять успокоилось, и если прежде я старался поподробнее ознакомиться с общим видом города, с его церковными, мирскими, общественными и частными зданиями, находя наибольшее удовольствие в старине, тогда у нас еще преобладавшей, то теперь, начитавшись Лерснеровой хроники, а также других книг и рукописей из так называемого «франкфуртского отдела» отцовской библиотеки, я стремился воскресить для себя людей былых времен, в чем я и преуспел, благодаря пристальному рассмотрению особенностей времени, изучению нравов и выдающихся характеров.