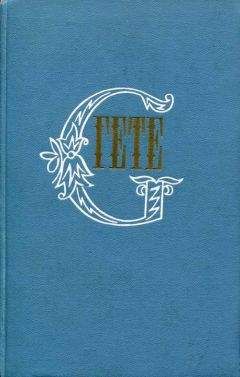Мой отец не легко решался на расход ради мгновенного удовольствия — так, например, я не помню, чтобы во время увеселительных поездок мы заходили подкрепиться в какую-нибудь ресторацию, — но не скупился на приобретение вещей ценных и в то же время красивых. Никто не жаждал мира более, чем он, хотя последнее время война нисколько не была ему в тягость. Исходя из этих соображений, он обещал подарить моей матери золотую табакерку, усыпанную бриллиантами, как только будет провозглашен мир. В надежде на счастливое событие разные люди уже не первый год трудились над этим подарком. Сама табакерка, довольно большая по размеру, была изготовлена в Ганау, так как отец состоял в добрых отношениях не только с тамошними шелководами, но и с золотых дел мастерами. Сначала было сделано множество рисунков: на крышке красовалась корзина цветов, а над нею — парящий голубь с оливковой ветвью в клюве. Для бриллиантов, которые предстояло разместить на голубе, на цветах и на замке табакерки, было оставлено необходимое место. Окончательную отделку отец поручил ювелиру Лаутензаку, он же должен был раздобыть и камни. Искусный и расторопный человек, Лаутензак, как, впрочем, и все одаренные художники, работал не столько по заранее намеченному плану, сколько по произволу, то есть над тем, что доставляло ему удовольствие. Бриллианты были уже размещены на черном воске в том самом порядке, в каком должны были быть размещены на крышке, и выглядели очень эффектно, но в нем они засели надолго, казалось, их никто и не собирался оправлять в золото. Поначалу мой отец относился к этому спокойно, однако, когда надежды на мир стали оживляться и вокруг уже пошли разговоры об условиях мирного договора, главным же образом о возведении эрцгерцога Иосифа в сан римского короля, им овладело нетерпение, и мне приходилось раза по два на неделе, а потом и каждый день бегать к медлительному мастеру. Мое упорное приставание и уговоры двигали работу вперед, но уж очень помалу, ибо в силу самого характера заказа ее можно было продолжать, а потом снова откладывать, и мастер находил все новые предлоги для проволочек.
Но основной причиной такого поведения Лаутензака была другая работа, предпринятая им на свой страх и риск. Всем было известно, что император Франц страстно любил драгоценные камни, и прежде всего цветные. Лаутензак истратил весьма солидную сумму (как выяснилось впоследствии, превысившую его состояние) на приобретение этих камней и начал составлять из них цветочный букет, стремясь к тому, чтобы выгоднее проявились форма и цвет каждого камня, а все произведение в целом не посрамило бы императорской сокровищницы. Не умея сосредоточиться на чем-нибудь одном, он работал над букетом уже несколько лет, и теперь, когда ввиду скорого заключения мира ожидалось прибытие императора во Франкфурт на коронование сына, заторопился с окончанием отделки и составления своего букета. Он ловко использовал мою любовь к созданиям рук человеческих, чтобы отвлечь меня от моей основной миссии — его поторапливать; старался преподать мне знание драгоценных камней, обращал мое внимание на их свойства и ценность, так что под конец я, можно сказать, наизусть знал этот букет и мог бы не хуже самого Лаутензака с наивыгоднейшей стороны показать его клиенту. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами, и хотя я потом видел ювелирные изделия более ценные, более изящных мне уже встречать не приходилось. К тому же у нашего ювелира было хорошее собрание бронз и других предметов искусства, о которых он любил распространяться, посему я проводил у него время отнюдь не бесполезно. Наконец, когда уже был назначен день созыва конгресса в Губертусбурге, он из симпатии ко мне закончил все, что еще оставалось сделать, и голубь, вьющийся над корзиной цветов, был вручен моей матери в день заключения мира.
С подобными поручениями отец посылал меня и к художникам, писавшим картины по его заказу. Он вбил себе в голову, — впрочем, такого же мнения придерживались очень многие, — что картина, написанная на дереве, имеет значительные преимущества перед картиной, написанной на холсте. Поэтому он всегда был озабочен приобретением хороших дубовых досок разных форм и размеров, зная, что художники в этих делах легкомысленно полагаются на столяров. Отец раздобыл старые, добротные доски и отдавал их столяру проклеить и обстругать, после чего они на долгие годы отправлялись в одну из верхних комнат для просушки. Одна из таких драгоценных досок была доверена живописцу Юнкеру, который должен был в своей изящной манере изобразить на ней красивую вазу с полевыми цветами, написанными с натуры. Дело было весной, и я не упускал случая каждую неделю приносить ему прелестнейшие цветы из попавшихся мне под руку. Он тотчас же присоединял их к прежним и так, мало-помалу, путем усидчивой и усердной работы, составил из разрозненных элементов единое целое. Но вот однажды я случайно поймал мышь и тоже притащил ее в его мастерскую. Хорошенькая зверюшка понравилась художнику, и он весьма правдоподобно изобразил ее обгрызающей колос у подножия вазы. После этого я приносил ему еще разных невинных тварей вроде бабочек и жуков, так что в конце концов у него составилась целая картина, весьма ценная в смысле выполнения и точного подражания природе.
Посему я был очень удивлен, когда этот славный человек, уже незадолго до сдачи работы, вдруг пустился в обстоятельные объяснения, почему он ею недоволен: она-де хороша в деталях, но в целом плохо скомпонована, потому что писалась постепенно, и к тому же он с самого начала допустил ошибку, не набросав, хотя бы в общих чертах, плана распределения цвета, света и тени, сообразуясь с которым надо было сочетать цветы в букете. Он подробнейшим образом разобрал со мною всю картину, возникавшую в течение полугода на моих глазах и в отдельных частях нравившуюся мне, и, к величайшему моему сожалению, сумел меня переубедить. Неудачей он объявил и пресловутую мышь, хотя бы потому, что у многих людей мышь вызывает отвращение и нечего совать ее в картину, предназначенную тешить глаз. И вот, как это часто случается с теми, кто воображает, будто излечился от предрассудка и стал много умнее, чем прежде, я преисполнился презрения к картине и всецело поддержал художника, когда он велел изготовить новую доску того же размера и, в согласии с собственным вкусом, написал на ней вазу более совершенной формы и более продуманно составленный букет, с несравненным изяществом разместив вокруг умело подобранные и премилые живые существа. На этой доске он работал с не меньшим тщанием, но, конечно, многое списывал со старой либо восстанавливал по памяти, развившейся у него за годы усердных трудов. Наконец обе картины были готовы, и мы от души порадовались последней, действительно более искусной и эффектной. Отец, к своему удивлению, получил две картины вместо одной, выбор, разумеется, был предоставлен ему. Он воздал должное нашему мнению, выслушал все резоны, похвально отозвался о трудолюбии художника, но, в течение нескольких дней внимательно приглядываясь к обеим картинам, остановился на первой, не вдаваясь ни в какие объяснения. Раздосадованный художник забрал вторую, написанную с наилучшими намерениями, и не удержался, чтобы не сказать мне с глазу на глаз, что на выбор отца, несомненно, повлияла добротность дубовой доски под первой картиной.