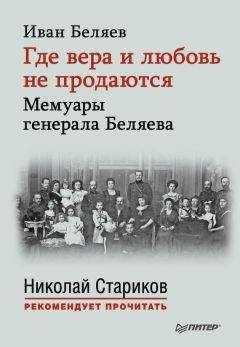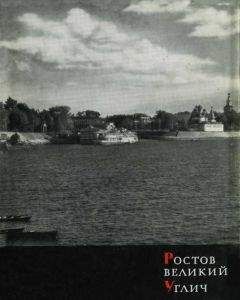Такие дела, товарищ майор из Главного Управления Кадров Артиллерии Советской Армии, заславший меня в Европу. Нету в Европе должности для младшего техника — лейтенанта Бернштейна, нету!
Этот факт очевиден для начальника отдела кадров на месте — и его посещает на редкость здравая мысль.
— А что, Манохов, может быть, будем увольнять его в запас?
— Чего? — орет Манохов страшным голосом. — Так это же Бернштейн! Он же саботажник! Он отказывался ехать на должность! Да он!..
Армия, как известно, — институция абсурдно — разумная. Там лишних офицеров не бывает, бывают только временно не используемые по назначению. Для таких существуют заведения под названием «Резерв офицеров», где они служат родине потенциально.
— Ну, Манохов, пиши его в резерв.
* * *
Резерв офицеров 43–й армии находился в десятке километров от города, в немецкой деревушке. Немецкой в полном смысле слова, там в добротных каменных домах жили немецкие крестьяне. Время переходное — поляки еще только осваивали переданные им территории, так называемые «западные земли», а немцы их еще не покинули. В каждом доме командование разместило по нескольку офицеров, хозяевам что‑то там платили — и они нас кормили и следили за чистотой. Если бы им не платили, они, возможно, делали бы то же самое. Но им платили.
Я вспоминал школьный немецкий — для школы у меня был довольно приличный немецкий, — беседуя с хозяйкой. Муж ее погиб где‑то на фронте. Конечно, она ничего не знала о гитлеризме и о его преступлениях. А может, знала. А может, знала, да не все. Кто проверит? Если знала, то разве признается? Передо мной была немолодая женщина, потерянная, не понимавшая, где теперь ее место и что ей делать. Я ей давал советы — кажется даже, что вполне разумные. Я ей говорил, что надо собираться на ту сторону, за Одер — hinter Oder, verstehen Sie? Здесь у вас нет будущего, нет прав, нет власти, вы не граждане этой страны. Германия теперь начинается там.
Власти, действительно, не было, немцы, а их оставалось немало, были не только бесправны, но и беззащитны перед лицом унижений и издевательств любого сорта.
…Капитану, моему соседу, владельцу аккордеона, пришел приказ об увольнении в запас. У него оставались деньги, злотые, их надо было реализовать. Платили нам так: полная зарплата шла на сберкнижку, а еще половину выплачивали в злотых. Питались мы за казенный счет, а злотые оставались на мелкие расходы. Так вот, у экономного капитана, да еще в нашей деревушке, где и потратить не на что, оставались деньги. Покупать в польских лавках — тогда еще исключительно частных — было дорого или очень дорого. Капитан прослышал, что у немцев — в глубинке — можно было купить чего‑нибудь куда дешевле. На базар они относить свое боялись — любой мог подойти и просто отобрать, управы искать им не полагалось. Сосед раздобыл грузовик, а меня попросил быть переводчиком. Он знал, куда ехать, минут через сорок мы добрались до искомой немецкой деревни. Она была пуста. Крепкие каменные дома стояли открытые настежь, с выбитыми стеклами, внутри не было ничего — ни людей, ни вещей, ничего. Где‑то валялась разбитая электрическая лампочка. Во дворе одного дома стояло растерзанное пианино — без передней стенки, с вырванными клавишами и разодранными струнами. Кто‑то мстил — то ли немцам, то ли культуре. Моему капитану труп фортепиано был ни к чему.
Мы развернулись, чтобы ехать домой, но на выезде из деревни оказался прохожий, поляк. Мы спросили его, куда девались немцы. Те, которые остались, — вон там. Он показал на большой двухэтажный дом в стороне, на пригорке. Мы подъехали, дверь была заперта, капитан постучался. За дверью раздались истерические женские и детские крики, вопили все вместе, ничего нельзя было разобрать. Я попробовал орать еще громче. В конце концов они, видимо, услышали, что мы не бандиты, что мы хотим у них что‑нибудь приобрести за честные деньги — ну, и всякое такое. Дверь отворилась. Там плотной группой стояли женщины, дети разного возраста, старухи, мужчин не было. Они снова стали кричать наперебой, но в конце концов мне удалось выделить рассказчицу. Молодая женщина со свежими синяками на лице, под восклицания и дополнения остальных, описала положение дел.
Эти люди, остаток жителей деревни, поселились все вместе в большом доме. Тут их обнаружил Колька, наш человек. По — видимому, дезертир. Обычно он приезжал на телеге, ночью, с товарищами. Товарищи менялись. Все были пьяны и вооружены. Они нагружали телегу немецким барахлом, насиловали женщин, били всех подряд. Поэтому женщины помоложе в доме перестали ночевать, они брали детей и уходили в лес — и это померанской зимой. Но Колька был пьян — и ему было все равно кто. «Hier ist alles kaput!» — кричала страшная, с черными кругами вокруг глаз, старуха, все пытаясь задрать юбку и показать мне результаты Колькиных усилий. Несколько ночей Колька пропускал, пока не пропивал награбленное. А затем снова появлялся.
Жаловаться было некому. Формально немецким населением ведала польская власть, советско — армейские структуры не могли вмешиваться в эти дела.
Нет, конечно, пускать столь ответственную проблему на самотек было бы политически неверно. При политотделе армии был специальный отдел по работе с местным населением, его начальник, майор Альтшулер, был подготовлен к миссии и знал оба туземных языка. Но работа проводилась деликатно, с необходимыми приседаниями. Так, скажем, политотдел издавал для немцев газету. Но сами мы эту газету не распространяли, а передавали ее польской власти для бесплатной раздачи. Однажды, зайдя в мэрию, майор Альтшулер обнаружил, что газета продается — по злотому за экземпляр. Он поднимается к бургомистру и задает ему вопрос в лоб — что это, мол, такое, пане бургомайстрже!
— Пан майор не знает немцев, — парирует бургомистр. — Если немец получит газету бесплатно, он завернет в нее селедку, а если купит, то прочтет от доски до доски!
Но одно дело продавать бесплатную газету, а другое — защищать от гулящего советского дезертира каких‑то немецких обывателей, которым пора отсюда убираться. Свежа память. Грайзера недавно повесили.
Тем временем немецкой клиентелой Кольки занялись другие поляки. Пара переселенцев, то ли супружеская, то ли вольная, заняла неподалеку от большого дома пустующую оранжерею, которую они превратили в нетривиальный уголок на двоих. Переселенцы, подобно птицам небесным, не жали и не сеяли, а кормильцами своими и обслугой сделали близлежащих немок. Эти женщины, если им удавалось что‑либо продать, должны были накормить бездельников, а из остатка — собственных детей. Вот и мой капитан купил кой — чего, честно расплатившись. Часть этой платы пойдет на пропитание польской пары — если Колька не отберет.