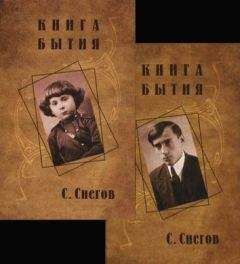На этом фоне выпуски о Гарибальди не катили. Действительность уступала лубочной фантазии. Кстати, впоследствии мне стоило немалого труда воспринять реального итальянца — без дешевого «выпускового» флера.
Все, что я читал тогда, в зиму моего затворничества, развлекало и отравляло. Воображение работало, вкус подавлялся. Вероятно, это особенность любых комиксов и дайджестов.
Однажды сквозь мощные барьеры бульварщины прорвалось нечто необычное. Мне попалась книжка без автора — автор был оторван (вместе с обложкой). Правда, это были стихи (существенный недостаток), а их нельзя пробегать одним духом, торопясь к всегда одинаковому, утешительному финалу. Пришлось не спешить — и я как-то нечувствительно с этим примирился.
Стихи рассказывали о юноше по имени Евгений, потомке знатного рода, но очень обедневшем. Как-то дождливой ночью он вернулся домой, а за окном разыгралась буря. Дело было в Петербурге, там протекала злая река Нева — ветер повернул ее назад, и она как зверь кинулась на город, затопила улицы и площади, размыла могилы — по широким проспектам поплыли гробы. У Евгения была невеста Параша, хорошая девушка. Он всю ночь тревожился, что с ней, а утром поспешил на Парашину квартиру. Не добрался и спасся от наводнения (оно все усиливалось), взгромоздившись на мраморного льва. И что же он увидел? Дом Параши снесли волны, она погибла в осатаневшей Неве. Евгений сошел с ума. И еще в книжке говорилось, что как-то вечером он проходил мимо памятника царю, строителю Петербурга. Ему, конечно, захотелось высказать суровому самодержцу все, что накипело на душе. Но цари не переносят критики, даже справедливой. Разгневавшись, памятник сорвался с пьедестала и помчался за насмерть перепутанным юношей. Погоня продолжалась всю ночь: куда ни улепетывал Евгений, всюду его настигал безжалостный всадник. Ка-ка-ка — били по мостовой медные копыта, и мостовая сотрясалась. Только рассвет прекратил это безумие: царю пришлось воротиться на постамент, а несчастный Евгений вскоре помер.
Каждая строчка хватала за душу. Все было так удивительно и так великолепно, так не похоже на подвиги великих сыщиков, что я заплясал по комнате, выкрикивая что-то победное — наверно, индейские боевые кличи (только индейцы способны вопить так громко и непонятно). Потом я кинулся на Жеффика и повалил его на пол. Жеффик рычал, оборонялся, нападал, кусал, выворачивался — он умел соответствовать моему восторгу. Немного успокоившись, я строго прикрикнул:
— Перестань, ты совсем ошалел! Слушай, что я тебе прочту.
Жеффик сел у моих ног — я стал читать ему поэму. Он слушал внимательно, иногда (в самых сильных местах) дергал головой, от волнения бил хвостом. Возможно, он понимал не все (особенно это касалось строчек о происхождении и предках Евгения), но поведение беспощадного царя ему явно не понравилось. Он всей душой, как и я, сочувствовал горемыке, которого судьба покарала так жестоко и несправедливо.
Вечером я прочел поэму маме, она похвалила меня за то, что забросил выпуски. Осип Соломонович сказал, что знает автора стихов — их написал Пушкин. Я огорчился. Пушкин сочинял сказки про золотых рыбок и спящих царевен (их я мог читать почти наизусть). И про него рассказывали много анекдотов и неприличных историй. Было обидно, что хорошая поэма принадлежит такому несерьезному человеку. К тому же я часто видел Пушкина на бульваре (он был памятником) — курчавая голова, старорежимные бакенбарды, ничего величественного и захватывающего. Разве можно сравнить его с дюком — герцогом Ришелье (тоже памятником — и на том же бульваре) и с величественным графом Воронцовым на Соборной площади! Даже с императрицей Екатериной недалеко от дюка, хоть царей отменили — и пора бы ей перестать красоваться на пьедестале. Нет, подумал я, наверное, поэму написал не Пушкин, Осип Соломонович тоже может ошибаться.
Ночью, в темноте, стихи вернулись (оказывается, я многое запомнил — сразу и на всю жизнь), я шептал их — сначала про себя, потом вслух, в меня плескала шумная волна Невы, я тихо плакал из-за Евгения, потерявшего невесту и гонимого по темному городу разъяренным царем. Мама прикрикнула:
— Чего ты там разбормотался? Спать надо!
Вскоре я примирился с авторством Пушкина. Но сколько бы потом ни возвращался к поэме, ни твердил ее наизусть — все так же томился и обалдевал.
В моей жизни было, вероятно, еще одно (и только одно) подобное ошаление — это произошло года через три или четыре. В новом нашем киоске — не на Мясоедовекой, а на Колонтаевской — появился какой-то журнал. Я потащил его домой и по дороге стал читать стихотворение о Шекспире. Был прохладный и ветреный вечер, шли тучи, звонили колокола, с благовестом мешался шум деревьев.
Звук мятущихся крон всегда волновал меня, я не мог слушать его спокойно — мне нужно было отвечать ему действием, и я начинал бегать и размахивать руками. Ветреной осенью у меня недоставало сил усидеть дома — и любые запреты матери были бессильны. А сейчас была осень, и ветер, и колокольный звон — и акации голосили по всей улице.
Я пробежал мимо дома, сделал крюк, вернулся — и снова пробежал мимо. Во мне органно гремели стихи, звучные, мерные, тяжелые, как колокола, от них спирало дыхание и становилось больно в горле.
Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах, преступный и пасмурный Тауэр,
И звонкость подков, и простуженный звон
Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.
Я твердил и твердил эти строки, кричал их себе и домам, хмурому небу и мятущимся деревьям. История была немудреной: некий Шекспир написал в трактире сонет, и тот потребовал, чтобы его тут же огласили — это было правильно, ибо стихи на то и стихи, чтобы их читать, бормотать, шептать, а при случае — кричать. Но этот самый Шекспир не согласился со своим сонетом, он пренебрег справедливым требованием — потому что не признал в посетителях достойных слушателей. Шекспир швырнул салфетку и позорно смылся из кабака — правда, предварительно заплатив за съеденное рагу, чтобы не догнали лакеи. Конечно, он поступил нехорошо — об этом говорили тяжелые, низкого органного тона, очень звучные (колокольного удара) строфы. На месте автора я заставил бы Шекспира действовать по-другому. Я как-нибудь встречусь с поэтом и обязательно скажу, что я с ним не согласен. Надо запомнить его фамилию, его стихи, отныне — и всегда — читать все, что напишет этот человек. Фамилия автора была мне незнакома — Борис Пастернак.
Затем был голод.
Голоду предшествовало оживление торговли. Военный коммунизм исчерпал себя. Он славно послужил войне, а для мира стал неэффективен. Он мог функционировать лишь краткосрочно — это был экстремальный, а не нормальный уклад. Ленин объявил нэп — новую экономическую политику.