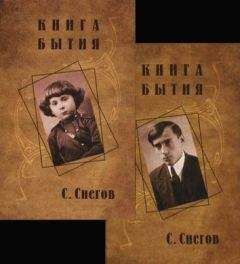Если порядок и был, то грозный. Стало известно: продналог не выполнить (он еще не взят, а брать уже нечего) и облегчения, которое должно за ним последовать, не будет. Та самая солома с крыш, на которую в худом случае (где-нибудь в начале весны) надеялись легкомысленные горожане, уже содрана, а зима еще не установилась. Правительство объявило южные губернии угрожающими по голоду. Это означало, что отныне из них запрещено вывозить продовольствие — все собранное должно оставаться на местах. Не замедлил и следующий шаг. Бескормица быстро ширилась, она захватывала один уезд за другим — правительство сделало новое заявление, официально признав голодающими районами не только Поволжье, но и Крым, и Херсон с Одессой. В такие губернии (это полагалось по статуту официального голодания) продовольствие поступало извне. То, что недавно вывозили, должны были теперь возвратить обратно. Но возвращать было нечего. И голод стал собирать с деревень и городов свою страшную жатву. Жатва была обильна.
Осень прошла скудно, но сносно. От голода уже умирали, но единично — одинокие старики и старухи, бездомные нищие, беженцы из деревень, устремившиеся в сытый, как им воображалось, город, но не нашедшие здесь ни работы, ни подаяния, ни пропитания. Зимой 1921/1922 годов голод стал повсеместным — начали вымирать семьями. На улицах появились трупы. Люди гибли в квартирах, об их смерти узнавали соседи и милиция — трупы выносили и клали на тротуары, поближе к стенам, чтобы не мешали прохожим. Падали на камни и прохожие, пытались встать. Кому удавалось — ковылял дальше, кто не мог — затихал и замирал. Навеки. Этих тоже оттаскивали к стенам, чтобы не загромождали дороги.
Раз в день по Мясоедовской, по Костецкой, по Прохоровской, по Госпитальной, по Болгарской, по Малороссийской — по всему нашему району, сворачивая с улицы на улицу, — неторопливо проезжал фургон, карета смертников, так его окрестили. Это был длинный наклонный ящик с двумя боковыми стенами, громоздкий, без верха — его сконструировали, чтобы увозить павших лошадей. Он много лет исправно выполнял свои функции, его хорошо знали в городе: лошади, когда лишались последних сил, имели обыкновение падать там, где их ударяла судьба, они, сколько помню, умирали всегда на ходу, а не в конюшнях. Но теперь лошадей на свалки не вывозили — фургоны приспособили для сбора людей.
Карета смертников останавливалась около валявшегося мертвеца, кучер и его напарник неспешно поднимали тело и швыряли его в ящик. Сколько раз я видел эти фургоны — и они никогда не были пустыми. Смертные повозки появлялись на нашей улице уже забитыми — на треть, наполовину, на две трети, — наши уличные покойники добавлялись к собранным неподалеку. В те годы на всех товарных вагонах красовалась категорическая надпись: «Сорок человек или восемь лошадей». Для живых соотношение было достаточно либеральным — пять человек занимали место одной лошади. В каретах смерти действовали законы куда суровей. В фургон больше одной клячи никак не впихнуть, но людей туда можно было навалить до десятка. И наваливали.
В первые месяцы голода кучера появлялись и во дворах, если им говорили, что кто-то помер в квартире. С помощью соседей они вытаскивали погибшего наружу и несли в свою карету. Потом такая услужливость показалась излишней. Даже просьбы милиционеров не действовали на возниц. Они огрызались, матерились, просто равнодушно отворачивались. Будут, мол, заходить в каждую квартиру — и половину трупов не увезут на кладбище. Хотите с честью похоронить своего соседа в общей могиле — вытаскивайте тело на улицу.
К весне очистка дома от мертвецов стала непременной обязанностью оставшихся в живых. Выработался особый похоронный ритуал. Фургон смерти вел свое очистительное шествие днем — значит, выносить умерших нужно было по утрам. А если — в первые месяцы — вытаскивать тела опаздывали, хорошим это не кончалось. Весь оставшийся день надо было ходить мимо трупа, иногда около него сидел кто-то оставшийся в семье, плакал и причитал — впрочем, плач был редок: смерть перестала быть чрезвычайным событием, она стала всеобщей житейской обыденностью. А ночью, когда улицы пустели, неведомо откуда набегали бродячие собаки и пиршествовали.
Я сказал «неведомо откуда» — и это не оговорка. Одесса всегда была полна беспризорного собачья, гицели не справлялись с его стаями. Но сейчас на собак охотились не гицели, а весь город. Бездомные псы поставляли мясо — для собственных нужд ловца, для продажи на рынке. Они быстро уяснили, что человек, еще недавно кормилец и охранитель, стал злым врагом, и стремглав уносились от любого — каждая встреча могла оказаться для них роковой. Но по ночам собаки появлялись на улицах, чтобы жрать мертвечину, в том числе и вынесенных на увоз людей. В темноте на улицах слышался лай и визг, топот лап, яростный хрип собачьих драк. Утром псы исчезали. В городе говорили, что они на день убираются в степь — там им безопасней, чем в городе.
Бродячие собаки были не единственными пожирателями трупов. Сперва вполголоса, потом все громче стали говорить о случаях людоедства.
Однажды у нашего дома оставили мертвеца. Утром обнаружили, что у него отрублена нога — не отгрызена, не оторвана, аккуратно, хорошо наточенным топором отрублена. «Работа мясника, сделано умело!» — с негодованием говорили одни. «Понесут человечину на базар, сами мертвечину жрать не будут!» — с отвращением твердили другие. Мы вышли на улицу с мамой, я полез смотреть на одноногий труп — она, вкатив мне затрещину за непристойное любопытство, поспешно меня увела. Об этом мертвеце, расчлененном явно на еду, говорили еще долго — я со страхом прислушивался.
Прислушивался я и к вечерним чтениям отчима. Поужинав, он надевал очки, садился у огня и читал маме газеты — он любил читать. Она любила слушать. Газеты еще не знали нынешней совершенной цензуры, которая способна поставить абсолютные преграды любому нежелательному известию — в них печатали подробные репортажи, рассказывали о помощи голодающим, о развязанных голодом зверских инстинктах. В мою память навсегда врубился отчет о судебном процессе над группой людоедов. Помню, где это было: Бузулукский уезд одной из волжских губерний. Осатаневшие от голода крестьяне сожрали одного соседа, потом другого, затем стали охотиться на людей. Жертвами становились преимущественно дети. Одна подсудимая спокойно рассказала, как ловили и уплетали соседских ребят, как убили и съели ее собственного сына. «И вы его ели?» — спросил судья. «И я ела, что же было делать», — ответила она. «Да как же вы могли есть своего ребенка?» — «Плакала и ела». Думаю, в больших библиотеках эта газета, центральные «Известия», сохранилась.