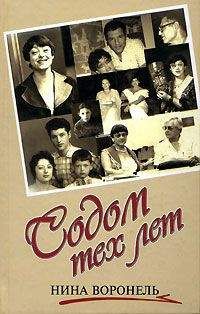Андрей упорно твердил, что только и стремится помириться с Максимовым и "Континентом", а Марья с неизменным успехом разрушала все наши усилия их помирить или хотя бы просто устроить их встречу. Максимов соглашался на любые компромиссы, а Марья неизменно находила бесчисленные скрытые признаки злой воли в его покладистости. Андрей всякий раз удивлялся мнимому коварству Максимова с простодушием, которое никак не вязалось с его проницательным взглядом парадоксалиста, и формулировал все новые и новые условия...
В общем, в течение нескольких лет они довольно успешно создали во внешнем мире впечатление серьезного политического раскола в парижском русскоязычном обществе, стараясь и нас с Ниной (и, в основном, журнал "22", который тогда в Париже очень интенсивно с интересом читали) втянуть в эту бессмысленную конфронтацию, несмотря на наше энергичное эмоциональное сопротивление и периферийное положение израильтян. Где-то в середине этой борьбы (слишком поздно, конечно) мы разгадали эту игру и перестали в ней участвовать, хотя из сентиментальных соображений не прерывали своего общения с Синявскими.
Поэтому, когда в 1986 г. Сергей Хмельницкий прислал нам в "22" подробное письмо с признанием своей многолетней службы в КГБ вместе с Андреем Синявским, мы уже не были потрясены, как многие наши читатели.
Теперь, после целой серии сенсационных признаний советских писателей (началось с Анатолия Кузнецова, а затем пошли и многие другие, включая Евтушенко и, наконец, Булат Окуджава) такое разоблачение уже не выглядит столь шокирующим. Но тогда оно вызвало целую бурю...
Пионерская юность и последующая советская жизнь избавили нас от многих мучительных сомнений и оставили в неведении относительно бездн человеческого падения и безвыходных философских тупиков гуманизма. Советская интеллигенция недостаточно внимательно читала Достоевского. Манихейски настроенная демократическая общественность не хотела признавать размытости границ между добром и злом в реальном мире. К тому же огромное большинство соотечественников придавало и добру, и злу слишком однозначно политическое толкование...
Впрочем, иные из особенно возмущенных этой публикацией, сами (в прошлом или настоящем) служили в КГБ. Как сказала мне по поводу Сергея Хмельницкого с глазу на глаз Марья: "Все служат в КГБ, но не все же стучат на друзей..."
Только по прошествии многих лет мне стало понятно значение раннего свидания Марьи с арестованным Андреем в период следствия (что было беспрецедентно в советских условиях), а также и противоестественных настояний Юлия на чистосердечном признании Марка Азбеля при очной ставке.
"Преступления" Юлия и Андрея могли совершенно по разному оцениваться в КГБ. "Антисоветская стряпня" обычного, даже одаренного, литературного неудачника, как они воспринимали Юлия Даниэля, представляла всего лишь небольшой недосмотр в хозяйстве их идеологического учреждения. По сложившемуся стандарту это наказывалось шельмованием и/(или) пятью годами отсидки в лагере. Совсем иначе могла оцениваться издевательская (или даже просто ироническая) публикация сотрудника этого учреждения без предварительного одобрения свыше. Такой поступок означал измену...
Измену не идеологии (какая уж тут идеология?), а самому учреждению. В этом случае наказание могло бы значить и смертную казнь... Как в случае Виктора Суворова (Резуна) - смертная казнь была ему присуждена, конечно, не за шокирующие писания, а просто за измену его учреждению (ГРУ).
В истории Синявского мы не знаем, в какой степени (и в какой момент) в КГБ открыли авторство Абрама Тэрца. Я не верю, что его готовили для роли писателя-антисоветчика с самого начала. Такая гипотеза, высказанная Ниной в ее книге "Без прикрас", слишком льстит предусмотрительности и дальновидению органов и преувеличивает их самостоятельность в принятии стратегических решений. Но Андрей Синявский попал в армию прямо из школы (он учился в одной школе со знаменитым в будущем шефом восточно-германской "Штази" Мишей Вольфом, в одном классе с его младшим братом Конрадом) и, по-видимому, во время войны оказался в КГБ в порыве юношеского патриотического энтузиазма. Следы этого общего энтузиазма в их классе видны из стихов третьего их одноклассника Сергея Хмельницкого. Однако, вступление в КГБ - это улица с односторонним движением. Там есть только вход, выход не предусмотрен...
Писательская натура Андрея (он сам неоднократно говорил о себе, как о неудержимом графомане), его проницательность и скептицизм очень быстро отрезвили его, и, повзрослев, он не сумел устоять перед соблазном по-своему написать о том, что понял, что увидел (и как увидел), и бросить свою запечатанную бутылку в океан. И со страхом ожидать казни.... Скорее всего это произошло в 1956 г.
Похоже, однако, что проштрафившемуся Андрею в КГБ периода либерализма вместо казни предложили компромисс (может быть и до ареста) и шанс заслужить прощение (что и вызвало его неожиданную "любовь к следователю Потапову") в результате многоходовой операции по введению в заблуждение либеральной общественности (сначала в СССР, а по мере роста его известности, и всего мира) с помощью совместного создания популярного образа умеренного героя-оппозиционера. А он и был весьма умеренно настроен и говорил, что его "расхождения с Советской властью носят стилистический характер". Советские люди того времени воспринимали это как ироническую формулу. Ведь сама-то власть пока что не принимала никаких расхождений! А вот в КГБ были и более дальновидные люди. В конце 60-х КГБ уже нащупывал разные небанальные варианты разрешения политического напряжения. К 1973 г. такая необходимость еще обострилась в связи с непримиримо антисоветской успешной позицией Александра Солженицына и его сокрушительного воздействия на мировые СМИ.
Для успешности такого проекта КГБ нужно было навести мосты и с Марьей. Не так уж это было трудно: для дома, так сказать, для семьи, ... младенцу Егору еще год не исполнился.
Тут Андрей со своим остроумием, по-видимому, и предложил семейную конструкцию, поразившую нас при первой встрече в Париже. Андрей остается как бы всегда высоко-принципиальным, выше земных интересов, а все дела за него (и все контакты с КГБ) будет править верная, но ... своенравная жена.
У многих ведь великих людей жены были стервы; начать хоть с Сократа, что ли. Это их, в конечном счете, не опорочило. Да и грех ли, если жена для сохранения и благосостояния семьи готова была подписать, что угодно, даже как бы и не вникая?... Теперь ее хрупкое семейное благополучие подпиралось и гарантировалось сугубо профессиональным вниманием ответственной организации...