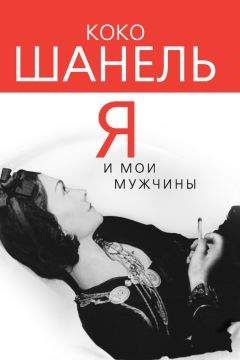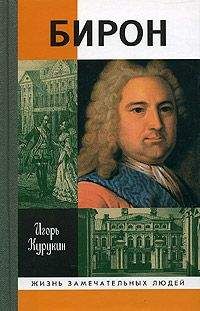Она должна была неплохо знать его, так как обедала с ним. В Виши ее ожидало письмо из Парижа. К ее удивлению, директор «Рица» уведомлял, что немцы не заняли ее апартаменты[195].
— Они даже не осмотрели мой багаж, большие сундуки с моим именем, которые я оставила в перед ней. Немецкий генерал увидел их:
— Это та Мадемуазель Шанель, что делает платья и духи? Она может остаться, нам не нужны ее апартаменты.
И добавила:
— Не все немцы проходимцы.
Если принимать буквально редкие признания, проскальзывавшие у Мадемуазель Шанель о черных годах оккупации, оставалось только скрежетать зубами. Война не касалась ее[196]. Чудовищный эгоцентризм защитил ее лучше, чем линия Мажино[197] Францию. Никто не мог нарушить ее одиночества. Можно было бы сказать, ее великолепного уединения.
Она говорила:
— Всегда будут войны, потому что изобрели столько лекарств, что люди скоро перестанут умирать.
В Виши, благодаря протекции префекта, ей удалось получить бензин. В дорогу, в Париж со своей приятельницей и докторшей! Вскоре им преградили путь.
— Пропускали только бельгийцев, возвращавшихся к себе в страну на допотопных повозках, в которые были впряжены быки. Это был исход доисторических времен.
Что делать? Мы вынули наши матрацы, чтобы спать в лесу.
Скажите, матрацы?
— Бежали только потому, что была хорошая погода. При плохой все остались бы у себя дома.
Мари-Луиз Буке подошла к людям, разжигавшим костер.
— Они собираются приготовить еду, — объяснила она Коко, — и приглашают нас.
— С самого утра, — сказала Коко, — мы не ели ничего, кроме конфет, и меня уже тошнило от них. Я была очень голодна, на свежем воздухе у меня разыгрался аппетит.
Она приказала «машинисту» повернуть назад, но не в Виши, а на проселочные дороги.
— Они были также запружены, — рассказывала она, — есть было нечего. Наконец мы добрались до Бурбон-л'Аршамбо. Это курорт. Люди были очень обеспокоены. Все было заказано на время сезона, но никто не приехал.
В первом же отеле она спросила:
— У вас есть свободные комнаты?
Чудо: три комнаты с ваннами, рассказывала Коко. Прежде чем принять ванну, она заметила ребенка, стоящего на стене: он сейчас упадет! Действительно, малыш потерял равновесие и полетел кубарем. Она бросилась вниз:
— Не трогайте, надо узнать, нет ли у него переломов!
Он плакал. Плакала и его мать, бедная женщина. Коко вынула из сумки сто франков:
— Это так грустно: как только мальчик увидел деньги, он перестал плакать. Он взял их и отдал своей маме. Сказал мне: мы сможем поесть сегодня вечером. У матери был еще один ребенок, к тому же она была беременна. Она показала мне свой кошелек: у нее оставалось всего пять франков. Она жила на подаяние. Но людям надоело давать. Все это было так грустно.
Она вернулась в отель.
— Где ты была? — спросила Мари-Луиз. — От тебя можно ждать любого сюрприза. Что еще натворила? Ты что же, никогда не изменишься?
— Моя дорогая, я дала сто франков маленькому мальчику, который упал со стены и который сможет поесть сегодня вечером.
Она добавила, как бы извиняясь за волнение, проскользнувшее в ее рассказе:
— Знаете, рассказывают такие вещи… Их нельзя было не принимать близко к сердцу в чрезвычайных обстоятельствах, какие были тогда; так много всего пришлось пере жить…
Немцы?
— Мне не в чем было себя упрекнуть. Что они могли мне сделать?
Поражение не касалось ее.
Она вспоминала ванну, которую смогла принять в Бурбон-л'Аршамбо:
— Вода стала совсем черной. Мне не раз приходилось снимать туфли, когда мы шли полем. Чулки были все в дырах.
Она не забыла и то, что ела за обедом: салат с яйцами всмятку. Подошла хозяйка:
— Вы действительно Мадемуазель Шанель?
— Дорогой мой, — сказала мне Коко, — я делала уже много вещей, украшения, платья, духи, я становилась знаменитой. Эта дама сказала мне: «Мои родители были бы так счастливы познакомиться с вами!». Они были ремесленниками, ткачами. Мы пошли к ним. «Не выпьете ли рюмочку анисовой, Мадемуазель Шанель?» — спросили они. Разглядывали меня, дотрагивались до меня; старая дама принесла журнал с моей фотографией. «Да, — прошептала она, — вы действительно Мадемуазель Шанель».
Немцы?
— …Они давали бензин. Встречались объявления, на которых было написано «Французский бензин». Можно было заправиться.
Когда она вошла в «Риц», директор сделал ей знак: остановитесь! Она увидела двух часовых. Знаком же ответила: если мне нельзя идти дальше, подойдите ко мне сами!
— Надо, чтобы вы пошли в комендатуру, — объяснил директор.
— Как, в таком виде, вся в грязи? Я должна переодеться. Моя горничная наверху?
— Нет, она не вернулась!
— Тогда вы сами пойдите в комендатуру! Скажите, что приехала Мадемуазель Шанель. Я приду после того, как приму ванну. Меня всегда учили, если просишь что-ни будь, лучше быть чистой.
Лето 40-го года! Воспоминания Мадемуазель Шанель вызывали у меня нечто вроде головокружения. Она рассказывала с такой простотой, как о чем-то совершенно естественном. Она говорила:
— Во время войны можно было продавать в день не более двадцати флаконов духов в Доме Шанель. Задолго до открытия выстраивалась очередь, в основном из немецких солдат. Я смеялась, видя их, и думала: «Бедные дурни, большинство из вас уйдет с пустыми руками». И говорила себе: «Когда придут американцы, будет то же самое». Так и было.
Война, мир… Она жила одна в крепости «Шанель», опуская подъемные мосты, когда ей вздумается пропустить того, кого хотела видеть. Во время войны это был барон фон Д[198]., которого друзья называли Шпац, что означало «воробей». Красивый, в молодости честолюбивый. После первой мировой войны он принял участие в подавлении движения «Спартак»[199], ставившего задачей продолжить русскую революцию в Германии. Его знали в довоенном Париже, он принадлежал к тем обольстителям «параллельных» дипломатических миссий, которых Риббентроп посылал в Париж и Лондон для подготовки почвы. Он тогда очень понравился одной парижанке, красивой, богатой и не совсем «арийке». Она вместе с мужем покинула Францию во время разгрома. Шпац поселился в ее квартире, чтобы охранять ее. Он был галантен, любил хорошо поесть, ценил хорошие вина, сигары, костюмы. Был в этом отношении очень требователен. Женщины, заботившиеся о его комфорте, сменяли одна другую. За их земные заботы он честно вознаграждал их поистине небесными любовными наслаждениями. В Париже он занимался контролем над текстильной промышленностью. Это был важный пост. С открытием русского фронта все изменилось. Для Шпаца стало главным как можно дольше удержаться в Париже. Следовательно, сделаться незаметным. Он спрятал свои машины. Не показывался с Коко ни на каких обедах у «Максима». Кстати, она вовсе не стремилась к этому. Они оставались у нее на рю Камбон. Когда один из друзей хотел предостеречь Коко… Эта дружба с немцем!.. Она возражала: