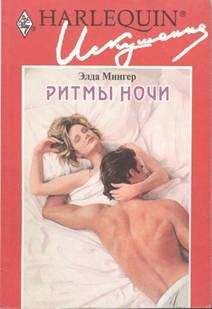— Режимная зона, говоришь? — удивился я.
— Ну да, — пожал он плечами. — Граница-то ведь рядом!
Он ткнул пальцем в сторону Ирана; там клубилось желтое малярийное марево, курчавились заросли карагача и верблюжьей колючки. Впервые в жизни я видел чужую землю, и она была так же скудна, как и моя.
— Но если здесь проверяют, — сказал я хмуро, — какого черта мы сюда притащились? И почему ты заранее не предупредил?
Он не ответил, что-то буркнул невнятно. И, опустив глаза, начал поспешно разжигать папиросу.
Разговор этот происходил перед вечером на пустынном разъезде. Покуривая и переминаясь в песке, мы стояли возле головного вагона. Жуя папиросу и жмуря глаза от дыма, Гундосый погодя спросил:
— Ты ездил когда-нибудь под вагонами? Знаешь, что такое «собачий ящик»?
— Нет, — сказал я, — слышал, конечно, много… Но самому не доводилось.
— Ну вот, теперь доведется!
Ладно, — сказал я. — Но все же почему ты не предупредил заранее?…
— Почему, почему, — ворчливо проговорил он и отмахнулся с досадой. — Откуда я знаю, почему? Забыл, не подумал… Чего ты цепляешься? В конце концов, ты ведь и сам бы мог догадаться, если поезд идет вдоль кордона…
Заглущая его, протяжно и хрипло рявкнул гудок паровоза. Гундосый сейчас же пригнулся, что-то высмотрел под вагоном и сказал:
— Есть такое дело, порядочек. Айда за мной! — и, покосившись на меня, мигнув ободряюще, ловко юркнул под колеса.
* * *
Что же такое пресловутый «собачий ящик»?
Это и в самом деле обыкновенный ящик, в котором поездная бригада хранит необходимый в дороге ремонтный инвентарь.
Находится он под вагоном, не под каждым — под некоторыми, как правило, в голове состава, в центре и в хвосте… И открывается снаружи, со стороны перрона.
Забраться туда, конечно, нетрудно и ехать там удобно. Однако опытные бродяги предпочитают этого не делать.
Расположившийся в таком ящике майданник рискует не жизнью, а свободой… Разомлевший и сонный, он в любую минуту может быть обнаружен случайным кондуктором, поездным рабочим, а иногда и милиционером. Дорожная милиция на остановках заглядывает туда нередко!
Гораздо надежнее, хотя и рискованней, пользоваться данным устройством не с наружной, а внутренней стороны. Там, под вагоном, «собачий ящик» образует выступ, на котором можно с грехом пополам продержаться несколько остановок.
Есть и еще одно приспособление, которым постоянно пользуются бродяги. Оно также называется «собачьим ящиком», именно о нем пойдет здесь речь.
Под днищем многих вагонов имеется продолговатая металлическая коробка, назначение которой, честно говоря, до сих пор остается для меня загадкой. Но дело ведь не в этом! Коробка имеет в длину что-то около двух метров, а в ширину — сантиметров пятьдесят. Она отлично приспособлена для езды, вот что самое главное!
Одному на этой коробке вполне удобно; двое помешаются с трудом! В тех случаях, когда едут вдвоем, людям приходится лежать на боку, вплотную, тесно прижавшись друг к другу, словно столовые ложки…
Причем тот, кто находится в глубине, должен все время заботиться о товарище — придерживать его и оберегать от падения; ведь тот, по существу, наполовину висит. Висит над землей, над звенящими рельсами!
* * *
Нырнув под вагон, Гундосый нашарил в полутьме металлический этот яшик, взобрался на него и протянул мне руку. Ладонь его была потной, скользкой и какой-то непрочной. И может быть, именно потому я постарался ухватить ее посильней.
— Ты чего это? — сказал он насмешливо. — Чего корябаешься-то? Или боишься?
— Н-нет, — ответил я и невольно расслабил хватку. — Нет, не боюсь. С чего ты взял?
И в этот самый момент тяжело и словно бы нехотя сдвинулся с места поезд. Он дернулся, ожил и задышал. Шевельнулись и зачавкали блестящие от мазута рычаги. Короткий гром прошел по составу.
Я рванулся к Гундосому… и поник, ослепленный ударом. Он ударил меня ногой в лицо — жестоко, со всего размаха. И потом еще раз. Я упал, но все же руки его не выпустил.
Гундосый отдирал мои пальцы, ломал их и грыз, и брызгал слюной. И сквозь железный грохот и лязг до меня долетел гнусавый судорожный его голос:
— Ты думаешь, зачем я тебя завез сюда — Восток показать? Ух ты, фрайер. Я тебя здесь похороню, и никто ничего не узнает! Ни одна душа! Дорога эта пустая, блатных нет. Ну а в кодле потом я всегда оправдаюсь. Кодла знает: мы с тобой друзья… Никому и в голову не придет… Я же ведь твой учитель, благодетель! Вот теперь я тебя научу, собаку. Я давно этого момента ждал! Давно. Все лето.
Он бормотал, захлебываясь и ломая мне пальцы, а я в это время тащился по шпалам — между рельсами.
Рядом с моей щекой, почти вплотную, поблескивало колесо. Оно пахло пылью и нагретым металлом; оно вращалось медленно, прокручивалось с хрустом…
И тогда я взмолился, вспомнил о Боге. Первый раз в жизни вспомнил я о Нем по-настоящему:
— Господи, — воззвал я, плача, — Господи! Помоги мне, спаси меня, сохрани…
* * *
И внезапно (не знаю уж по какой причине!) поезд замедлил ход.
Опять — надрывно и далеко — прозвучал гудок. Лязгнули, сшибаясь, буфера, блеснули и замерли колеса.
Все это время я цепко держался за Гундосого — держался, несмотря ни на что. Я словно бы закостенел, впал в странное беспамятство и напрочь утратил ощущение боли… И если бы я даже угодил под колеса и был раздавлен ими, все равно я ни за что не выпустил бы, не оставил ненавистной этой руки!
Когда вагон внезапно затормозил, я вдруг очнулся. Уперся ногами в шпалу и приподнялся стремительно.
Лица наши сблизились. Я увидел в полутьме Гундосого. И он тоже увидел меня… И забился, задергался, раздирая в крике слюнявый свой рот.
Положение его, надо сказать, было в этот момент незавидное. Он ведь лежал на боку! Одна его рука бездействовала, была как бы скована, другая же намертво зажата в моей горсти.
И я тотчас же воспользовался этим.
Левой, свободной рукой я схватил Гундосого за горло, сдавил и рванул его на себя.
Я чувствовал, как под моими пальцами горло Гундосого обмякает, становится зыбким, словно желе. Чувствовал это и давил его, и сминал, вкладывая в это всю силу свою, весь свой гнев.
Затем поезд двинулся снова, но мне это уже ничем не грозило. Там, где минуту назад лежал мой враг, теперь находился я сам.
Гундосый остался внизу, под колесами… Гулкий, тяжко похрустывающий металл перемолол его так же легко, так же точно, как мог бы перемолоть и меня.