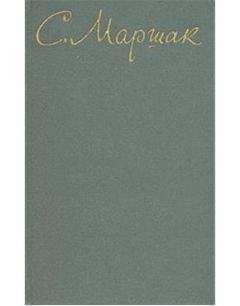И если несколько дней тому назад, разъезжая по Питеру с отцом, я казался самому себе маленьким, то здесь, у гранитной ограды Невы или у подножья скалы, на которой застыл на всем скаку Медный Всадник, я чувствую себя вполне взрослым человеком, причастным к жизни взрослых, к истории, к поэзии.
Северные летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Улицы стали понемногу пустеть. Я шел домой, прислушиваясь к четкому стуку своих шагов, вглядываясь в серовато-голубой сумрак, легкий, прозрачный, не мешающий глазам видеть.
В скверах над стрижеными газонами лежали белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростью и землей, будто я не в Петербурге, а где-то на окраине, на огородах.
И этот простой, неожиданный запах делал еще более странной эту ночь без темноты, так непохожую на другие ночи.
Пока я шел, край неба заалел. Ранняя заря заиграла на стеклах верхних окон.
Дома в тревоге ждали меня родные. Они так обрадовались моему возвращению, что не стали меня бранить, а я был благодарен им за то, что они ничем не омрачили мою первую белую ночь.
----
Наши каникулы кончались, а мы и сами не знали, радует нас или печалит предстоящее возвращение в Острогожск.
Грустно было снова расставаться с родными, жалко покидать только что открывшийся нам во всем своем великолепии Петербург. Но с каждым днем все милее казался и брату и мне далекий, маленький, почти сплошь деревянный Острогожск, где была наша гимназия, где жили все наши сверстники, товарищи, друзья.
Не знаю, куда, в какую сторону побежал бы я сначала, кого из товарищей повидал бы первым, если бы внезапно очутился в Острогожске. Хотелось увидеть все и всех сразу, снова оказаться по горло занятым, всем и каждому нужным, каким был я до отъезда в Питер.
Так чувствует себя, должно быть, человек, возвращающийся из отпуска в далекий полк, где у него есть определенное положение, точные обязанности, издавна установившиеся отношения с людьми.
Мы и сами не заметили, как стали считать остающиеся до отъезда дни. Особенно не терпелось брату. Он аккуратно переписывался с Острогожском и бережно хранил приходившие оттуда на его имя письма. Я был гораздо легкомысленнее и за все время каникул не написал ни одного письмеца.
Вспоминая об этом я мучился угрызениями совести и еще больше скучал по затерянному где-то вдалеке Острогожску.
Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни одной триумфальной арки и памятника на площади, казался мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем торжественный и многолюдный Петербург.
Я уже довольно свободно разбирался в петербургских улицах, многие из них измерил шагами из конца в конец, наблюдал их и в дневные часы, и вечером при свете газовых фонарей. Но за каменными стенами многоэтажных зданий я не чувствовал еще живущих там людей, не представлял себе их обстановки и уклада.
Те семьи, с которыми успели познакомиться в столице мои родители, в сущности, оставались и здесь провинциальными и жили во временных, случайных и неуютных квартирах.
А вот настоящих, коренных петербуржцев я еще не встречал.
Однако вскоре - еще до отъезда нашего в Острогожск мне довелось познакомиться и даже коротко сойтись с ними.
Вот как это случилось.
Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стиха и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в свою очередь, расхвалил мои поэмы и переводы - да не кому-нибудь, а самому Стасову.
Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.
Этот человек, которому шел в то время - летом 1902 года - семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-стариковски ласково, но с какой-то скрытой настороженностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких малолетних музыкантов, художников, поэтов, и он прекрасно знал, как редко они оправдывают те большие надежды, какие на них возлагают друзья и родственники.
А может быть, он попросту был очень утомлен после долгого, наполненного разнообразными встречами дня. Во всяком случае, начиная читать свои стихи, я видел его крупные опущенные веки, и мне казалось, что он спит.
И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо - оживленное, помолодевшее. Таким он становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган.
Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и, наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную поэму о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов громко хохотал, вытирая слезы, и некоторые, особенно хлесткие места заставлял повторять дважды.
С этого дня в моей жизни и начались события, круто изменившие весь ее ход.
Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо закрытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и сразу породнил меня с этим строгим и умным городом.
Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Васильевича то дома, то в Публичной библиотеке.
С каким жадным любопытством, с каким счастливым ожиданием чего-то нового поднимался я всякий раз по широкой, устланной красным ковром лестнице, которая вела не в читальный зал, а в просторные, тихие комнаты книгохранилища, где по одному, по двое работали ученые сотрудники библиотеки.
У Стасова не было своего отдельного служебного кабинета. Перед большим окном, выходившим на улицу, стоял его тяжеловесный письменный стол, огороженный щитами. Это были стенды с гравированными в разные времена портретами Петра Первого. На одних гравюрах он был изображен по пояс, в стальных латах, на других - в мантии, во весь рост. На третьих - это был всадник на вздыбленном коне. Гневные, полные воли и энергии черты Петра и его боевой наряд придавали мирному уголку книгохранилища какой-то своеобразный, вдохновенно-воинственный характер. Впрочем стасовский уголок библиотеки никак нельзя было назвать "мирным". Здесь всегда кипели споры, душой которых был этот рослый, широкоплечий, длиннобородый старик с крупным, орлиным носом и тяжелыми веками. Он никогда не сутулился и до самых последних своих дней высоко нес непреклонную седую голову. Говорил громко и, если даже хотел сказать что-нибудь по секрету, почти не снижал голоса, а только символически заслонял рот ребром ладони, как это делали старинные актеры, произнося слова "в сторону".
Со мною Стасов обращался безо всякой снисходительности, как со взрослым, хоть и говорил мне "ты" и называл меня "Маршачком". Впоследствии при каждой встрече он прибавлял мне какое-нибудь новое шутливое прозвище: "Маршачок-Судачок-Чудачок-Усачок" и т. д.