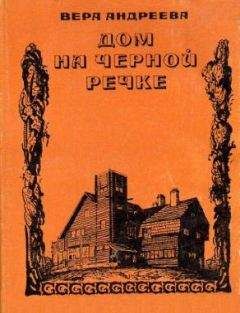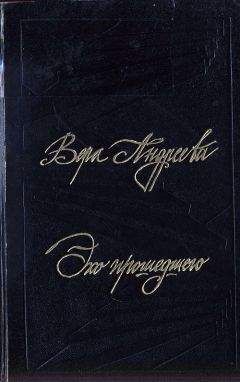Она беззастенчиво помыкала своими поклонниками, которые с редкостным терпением переносили ее капризы и насмешки. Особенно доставалось гордому и хрупкому Павлу Петровичу за его манерность и утонченный вид. Однажды она уговорила нас подстроить ему каверзный сюрприз. В журналах «Нива» на последних страницах был отдел, посвященный объявлениям и рекламе. Особенно часто там попадалась рекламная картинка, восхвалявшая волшебные свойства пилюль «Пинк»: молодая томная дама с поразительно развитым бюстом и тонкой талией мечтательно глядит вдаль, а на заднем плане маячат фигуры нескольких молодых красавцев во фраках — они указывают друг другу на даму с самым восхищенным и многозначительным видом. Внизу был текст: «Если вы хотите пользоваться успехом в обществе, быть красивой и привлекательной, — употребляйте пилюли Пинк! Они сообщат вашей фигуре пышные формы, вы почувствуете прилив сил и жизненной энергии!» Наша сестрица повелела нам накатать из глины маленьких шариков и после просушки всыпать их в пузырек из-под какого-то лекарства. К пробке она приделала бумажный ярлык, наподобие тех, что привешивают аптекари к своим микстурам, на нем мелкими печатными буквами был переписан текст объявления о волшебных целительных свойствах пилюль «Пинк», причем слова о пышных формах были подчеркнуты. Этот пузырек Нина тайно сунула в портфель Павла Петровича, случайно забытый им у нас в кухне. К сожалению, наш учитель слишком хорошо умел владеть собой, так как никаких перемен в его лице на следующий день мы не нашли — он был по-прежнему корректен, вежлив, и его манеры сохранили свою изысканность и изящество. Однако он совсем перестал жаловаться на слабое здоровье и хрупкость пальцев.
В общем, мы скоро привыкли к Нине, перестали удивляться ее нерасположению к нашему образу жизни и с воодушевлением взялись за покинутые было занятия. Занятий было много, нам не хватало времени, мы всегда торопились и для скорости бегали, срезав хлыстик и пришпоривая себя им по голым ногам.
Большой нашей страстью было собирание грибов — их много росло в большом лесу «за колодцем». Идти туда надо было по тропинкам среди полей, мимо изб с курами, придерживая Берджоню — новое прозвище Варнавы, данное ему Ниной, за кожу на загривке: ходить на ремешке гордый пес наотрез отказался. Тропинка выводила на проселочную дорогу, и мы бежали мимо финской лавчонки, где торговали керосином, свечами и очень красивыми, пестро вышитыми кожаными кисетами для табака. В лавке были целые коллекции финских ножей — хорошеньких кинжальчиков с круглой ручкой и слегка загнутым кончиком, они вкладывались в ножны и прикреплялись к поясу ремешком. Кинжалы были разной величины — от самых больших до совсем крошечных — и составляли предмет наших вожделений. Нечего и говорить, что мечты так и остались мечтами, и приходилось, только благоговейно рассматривать запретное оружие, развешанное под потолком рядом с кисетами, метелками и ведрами. Тут же висели хомуты, уздечки и прочая лошадиная сбруя, вплоть до тележных колес. Медлительные финны-покупатели достойно стояли у прилавка и молчали. С продавцом они обменивались, по-видимому, одним им понятными условными знаками, так как я никогда не слышала из их уст какой-нибудь членораздельной речи, а лавочник каким-то образом всегда знал, что им подать. Меня всегда охватывала страшная робость в этой лавке — финны стоят, попыхивают трубочками и глубокомысленно созерцают выставленные хомуты. Казалось немыслимым подойти к прилавку и выговорить свое желание — такая священная тишина стояла вокруг. Когда же наконец решаешься и подходишь, лавочник вопросительно взглянет, и тут с ужасом убеждаешься, что все сахары и керосины тети Наташи совершенно испарились из головы, а ведь всю дорогу я твердила наизусть нехитрый список ее заказов! Бессмысленно топчешься и наконец шепчешь сдавленным голосом: «Коробку спичек, пожалуйста…» Берешь ненужный коробок, платишь что-то и в полуобморочном состоянии выходишь. Когда звякает колокольчик на двери и она захлопывается за спиной, совершенно неожиданно все вспоминаешь — и что же теперь делать? Долго стоишь у порога, рассматриваешь чистеньких лохматых лошадок, терпеливо ожидающих — уши врозь, дугою ноги — своих хозяев, мучительно собираешься с духом и опять входишь. Картина та же, только теперь финны дружно вперяют свой взгляд в бочку с квашеной капустой…
Итак, миновав лавчонку, пройдя мимо сапожника и портного, сидящего, скрестив ноги, на столе перед окошком, мы сворачивали в сторону, и вот уже и знаменитый колодец с журавлем, за которым темнеют могучие ели огромного дремучего леса. Дорога из теплой и пыльной делается сырой и прохладной, глубокие колеи наполнены холодной водой, торжественная тишина обступает со всех сторон, как стеной, невольно начинаешь говорить шепотом, оглядываешься боязливо — за деревьями чудятся одичавшие коровы, те самые, о которых рассказывают столько страшных историй. Преодолевая робость, сходишь с дороги и углубляешься в чащу. В ней так много таинственного! Вот небольшое озерцо с темной зеркальной водой, — наверное, то самое, на берегу которого сиживала, пригорюнившись, Аленушка, с тоской всматриваясь в его черную глубь: «Где же братик мой любимый, дорогой мой Иванушка?» Быстро проходишь, стараясь не глядеть на большую лягушку, важно сидящую на мшистом камне над самой водой — не золотая ли ее коронка отражается в темном зеркале лесных вод?
В самых дремучих местах, где сучья, поросшие белесоватым мохом, глухо ломаются под ногой, где почва сыра и хлюпают толстые мохнатые кочки, возникает вдруг из-за ели таинственная старуха. Горбатая, совсем седая, с вязанкой дров за спиной, в морщинистых пальцах зажата суковатая палка, а пальцы-то скрючены не хуже тех узловатых корневищ, о которые так больно спотыкаешься босыми ногами. Старуха исчезает бесшумно, как дух, — не баба-яга ли это, заготавливающая топливо для своей избушки на курьих ножках? Скорее подальше от этих мест, все равно грибов не видать, хотя спертый воздух полон их запахом и громадные мухоморы раскинули свои красные зонтики в зеленом бархате мха. Вдруг неподалеку слышится немного сиплый, но торжественный голос Тина. «Ура, ура, ура!» — кричит он. Согласно неписаным законам сборщиков грибов, этот троекратный победный клич означает, что счастливец нашел белый гриб!
Моментально забываешь про всех коров и старух на свете и начинаешь лихорадочно искать. Расширенные глаза обшаривают мох, оглядывают каждый корень, каждую кочку — напрасно! Одни пошлые сыроежки да никчемные поганки маскируются во мху под благородные белые грибы, каждый раз заставляя замирать сердце в безумной надежде. Бормоча проклятья, со злостью пихаешь их ногой, и вдруг замираешь — под маленькой елочкой целое семейство настоящих, восхитительных грибов! Застываешь в безмолвном восторге — они так красивы со своими темно-коричневыми шляпками, на толстеньких ножках! Вот папа и мама стоят рядышком, а к ним прижимаются их детки. Опрометью бросаешься на колени в мох — дрожащий от жадности палец запускается в землю и осторожно выковыривает гриб, в то время как другая рука шарит вокруг, приминая мох, а выпученные глаза все рыщут и рыщут по сторонам. Наконец, когда все семейство благополучно уложено в корзинку, место вокруг тщательно обследовано, открываешь рот и испускаешь троекратное «ура» с передышками — ровно столько раз, сколько грибов было найдено. Ликование звучит в моем голосе, его звук наполняет сердце Тина жгучей завистью, — раздвигаются ветки, и его огорченная фигура выползает на полянку. У него в корзине перекатывается всего лишь один здоровенный шлюпик с помятой шляпой и зеленой слюнявой губкой под нею, к тому же он явно червив, так что вряд ли стоило кричать «ура» на весь лес. Ревнивый взгляд Тина ощупывает содержимое моей корзины, и, побледнев от зависти, он хмуро вглядывается в разрытый мох: что, если я не заметила какой-нибудь грибок? «Нет, нет, уходи, здесь мое место!» — возмущаюсь я, и Тин покорно исчезает — таков второй неписаный закон грибников.