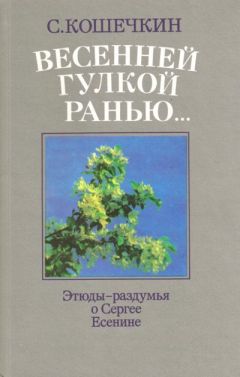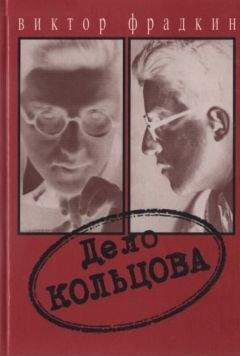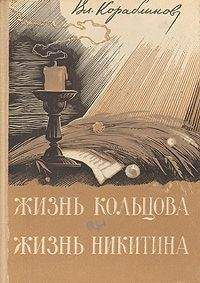бы сказать своему русскому кунаку Тициан. И услышать в ответ: "Родился я с
песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу свивали".
Оба - сыновья крестьян, оба росли на берегах рек: один - Риони, другой
- Оки...
Природа - разная, но одинаково сильно чувство сопричастности к ее
многообразной жизни.
...Слышу голос Есенина - напряженный, чуть-чуть с хрипотцой:
Я люблю родину.
Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.
Табидзе задумывается, и начинается его взволнованный рассказ о родных
местах, рассказ, который потом выльется в стихи:
...мне
Любо вспомнить о той стороне,
Слушать хриплую жалобу жабью
Или ржавое хлюпанье хляби.
Вот поэты словно услышали тихие песни над своими колыбелями, ощутили
прикосновения теплых рук матерей...
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне...
Глубок, неподделен есенинский вздох, и он - сродни тициановскому:
Ты снова ждешь, наверно, мама,
Что я приеду, и не спишь...
И сыновняя дума о матери и дума о судьбе отчей земли в сердцах поэтов
неразделимы. ("Родины участь - как матери участь..." - скажет Табидзе; Есенин: "Мать моя - родина...")
Им было дано прозреть будущее - одному оно открывалось "через каменное
и стальное", другому - через "стальных коней"...
Они могли о многом беседовать, добрые друзья... Ведь не случайно же, по
свидетельству Сандро Шаншиашвили, однажды Есенин сказал Табидзе:
- Дайте мне на берегу Куры клочок земли, и я построю тут дом, когда я в
Грузии - я рад жизни.
И, уехав, он думает о возвращении под сень тифлисских каштанов, к
дружескому теплу. Копия письма Есенина - на столе, под стеклом, в доме-музее
Тициана: "Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере -
тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас... Спроси Паоло, какое мне
нужно купить ружье по кабанам. Пусть напишет номер".
Вместе с Табидзе и Паоло Яшвили Есенин собирался охотиться в Саингило,
побывать в Боржоми, где на лето Тициан снимал дачу. Но судьба распорядилась
иначе.
Узнав о смерти Есенина, Тициан был ошеломлен, убит горем. В одну из
ночей на едином дыхании родилось стихотворение:
Был необъезженным, как жеребенок,
Как Чагатар, в крови был весь.
Я очень жалею, что в мир погребенных
Сопровождает тебя моя песнь.
Это - начальная строфа (перевод Л. Озерова). Последняя читается так:
Если в преддверье иного света
Головы наши от нас отлетят,
Пусть узнают: среди поэтов
Был нам Есенин и друг и брат.
А в середине стихотворения обронено самое сокровенное: "Верю в родство
наше..."
Перед отъездом из Ванского района участники Дней литературы заложили
Сад дружбы. Его разметили на берегу Риони, неподалеку от домов-музеев
Галактиона и Тициана Табидзе.
И, засыпая землей корень яблоньки, я думал о славных певцах Грузии, их
верности поэзии, и где-то в глубине сознания неотступно звучало есенинское:
"Милый друг Тициан!"
"ТО, ЧТО СРОДУ НЕ ПЕЛ ХАЯМ..."
1
Почти одновременно с публикацией "Песни о великом походе" Есенин
выпустил книгу "Москва кабацкая".
В сборнике - стихотворения 1921-1923 годов. Взятые в целом, они -
своеобразная летопись чувств и раздумий поэта в эти годы.
Открывают книгу "Стихи - как вступление к "Москве кабацкой": "Все живое
особой метой...", "Сторона ль ты моя, сторона!", "Мир таинственный, мир мой
древний...", "Не ругайтесь. Такое дело!..". Они как бы вобрали в себя
душевную сумятицу, растерянность, настроения бездорожья после крушения
иллюзий поэта о сказочной Инонии. "Нет любви ни к деревне, ни к городу".
Отсюда - прямая дорога в кабак.
Далее следует раздел "Москва кабацкая". Основу его составляют стихи, написанные за границей: "Да! Теперь решено. Без возврата...", "Снова пьют
здесь, дерутся и плачут. .", "Пой же, пой. На проклятой гитаре...".
Завершается раздел стихотворением "Эта улица мне знакома..." с его мотивом
сожаления об утраченной "нежной дреме", с неизбывной тоской по родительскому
дому...
В последнем разделе - "Любовь хулигана" - стихотворения, написанные
после возвращения из-за границы: "Заметался пожар голубой...", "Ты такая ж
простая, как все..." и другие. "Москва кабацкая" в прошлом: поэту
"разонравилось пить и плясать и терять свою жизнь без оглядки". Любовь к
женщине явилась "как спасенье беспокойного повесы". Пусть немало молодых сил
растрачено попусту, но еще рано горевать. Еще "в сердце снов золотых сума", не погасла надежда снова услышать "песни дождей и черемух", познать
человеческую радость, быть с настоящими людьми. И потому так светла грусть,
струящаяся из каждой строфы заключительного стихотворения книги "Не жалею, не зову, не плачу. ." (1921). В нем - не могильная меланхолия, не угрюмый
пессимизм, а ясная и трезвая дума о движении жизни, благословение бытия.
Именно этого зачастую и не видела критика.
Нет, несправедливо говорить, что в цикле кабацкий угар возводится "в
перл создания", "в апофеоз" (А. Воронский, 1924 год), что в "Москве
кабацкой" "воспеваются алкоголь, чувственность", поэтизируются "гульба, бунтарское своеволие и ухарство" (Л. Шемшелевич, 1957 год), что "отчаяние, безразличие к жизни, попытка забыться в пьяном угаре - основные мотивы этого
цикла" (Е. Наумов, 1971 год).
Верно, два стихотворения ("Снова пьют здесь, дерутся и плачут. ." и
"Пой же, пой. На проклятой гитаре..."), взятые обособленно от других стихов, рассматриваемые вне связи с общей направленностью цикла, далеко не каждому
читателю придутся по душе. Но не ими определяется внутренняя сущность
"Москвы кабацкой".
В том-то и дело, что поэт, оказавшийся в компании "бывших" людей, не
восторгается, не любуется кабацким разгулом, а с болью сознает всю
трагичность своего падения. С отвращением и самоосуждением говорит он о
"пропащей гульбе" в "логове жутком". За его подчеркнутой грубостью и внешней
развязностью скрывается нежная, отзывчивая душа, не нашедшая своего места в
жизни, но любящая жизнь, готовая распахнуться навстречу красивому и
врачующему чувству любви. Не потому ли циничное обращение к подруге по