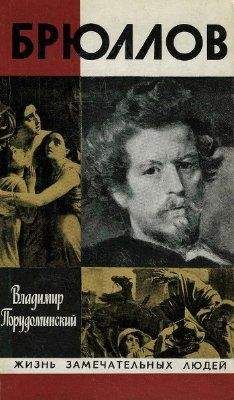Торвальдсен, стоя спиной к окну, несколько минут рассматривал эскиз — лист бумаги, наклеенный на картон, потом бросил его на стол.
Пиши эту картину, Карл, — сказал он, — кроме тебя, никто здесь не в силах написать ее. Бери самый большой холст и не бойся. В человеке всегда больше сил, чем он может предположить. Ты знаешь, какую из своих работ я люблю всего больше? Ну, конечно, квиринальский фриз. Я делал его в восемьсот двенадцатом году, весной. Тогда в Рим ждали Наполеона и для его приема заново отделывали Квиринальский дворец на Монте Кавалло. Пригласили архитекторов, скульпторов, живописцев, — меня не пригласили. Я был зол и обижен. Когда работы уже подходили к концу, ко мне примчался руководивший ими немец: «Где вы были, Торвальдсен? У меня есть для вас великолепный заказ, но нет на земле человека, который в силах выполнить его к сроку». — «Я выполню заказ к сроку», — ответил я, потому что все мое существо жаждало победы. «Но мне нужна не голова и не фигура, мне нужен фриз для большого зала!» — «Я исполню фриз», — отвечал я таким тоном, будто делаю ему пустяковое одолжение. Немец вытаращил глаза: «Но осталось всего два с половиной месяца!» — «Этого вполне довольно, — сказал я, сдерживая торжество. — Вас устроил бы сюжет: вступление Александра Великого в Вавилон?» Ты видел этот фриз? В нем три с лишним фута высоты и сто десять футов длины. В нем множество групп и фигур. Я сделал этот фриз за два с половиной месяца. У меня была лихорадка той весной. Припадки валили меня с ног, но каждый день я радостно бежал в мастерскую. Меня не покидало торжество победителя, а у наступающей армии, ты знаешь, раны заживают быстрее…
Рафаэлю было двадцать пять лет от роду, когда папа Юлий II пригласил его расписывать станцы, или, попросту говоря, комнаты, в северном крыле Ватикана. Папа избрал эти комнаты под свои личные покои, но, расписанные, они стали называться «станцами Рафаэля».
Рафаэль начал с помещения, именуемого Станца делла Сеньятура, что значит в переводе «комната подписи»: здесь хранилась папская печать. Росписи комнаты должны были прославить величие и силу человеческого духа, который всего более выражает себя в богословии, философии, поэзии и юриспруденции. Фрески Рафаэля назывались: «Диспут», «Афинская школа», «Парнас» и «Юстиция».
«Афинская школа» — это мудрость человека, его упрямая потребность познавать мир. Под сводами украшенного статуями и барельефами прекрасного здания, просторного и светлого, собрались жившие в разное время философы и ученые. Сократ живо беседует с политиками — Алкивиадом и Александром Македонским; облокотившись на камень, погрузился в мрачные думы одинокий Гераклит Эфесский, в образе которого запечатлел Рафаэль своего великого соперника Микеланджело, вольно развалился на ступенях циник Диоген; Пифагор с открытой книгой в руках объясняет ученикам теорему; по другую сторону картины Эвклид, склонившись, чертит циркулем на грифельной доске; стоят рядом Птолемей и Зороастр, в руках у одного глобус, изображающий Землю, у другого — шар с нанесенной на него небесной сферой. Центр композиции, средоточие и венец ее — Платон и Аристотель. Фигуры их четко видны на фоне неба в самой середине арочного проема. Достойно беседуя, они идут прямо на зрителя. Платон при этом указывает на небо, Аристотель простирает руку к земле. И в этом глубоком споре смысл и направление всех людских раздумий и поисков.
Карлу было двадцать пять, когда он задумал в натуральную величину оригинала скопировать «Афинскую школу». В Обществе поощрения художников обомлели, конечно. Пока в письмах судили да рядили, ту мадонну выбрать для копирования или эту, непонятный Брюллов возьми и замахнись на такое, что просто немыслимо поверить в успех. Шутка сказать, фреска почти восьми метров в основании, композиция, сложнейшая в своей простоте, каждая группа несет свой сюжет и смысл, и все группы связаны в единое гармоническое целое, с лишком пятьдесят фигур — и каких фигур! — каждая черточка, каждое движение исполнены глубокой мысли.
Четыре года почти простоял брюлловский холст в Станце делла Сеньятура. Заезжие путешественники поначалу сердились на непорядок, но минута-другая — уже с любопытством сравнивали копию с оригиналом и, не стесняясь живописца, обсуждали ее достоинства. Время от времени в сопровождении друзей и приятельниц заходил невысокий полный господин с красным пористым лицом, темными бакенбардами и живыми темными глазами под припухшими веками. Господина зовут Анри Бейль, про него известно, что он большой знаток музыки и живописи, при Наполеоне достиг какого-то видного поста, а теперь занимается литературой и пишет под псевдонимом Стендаль, в чем, однако, не желает признаваться, так как и сам он, и книги его на подозрении у австрийской полиции. Господин Бейль непременно заводил со спутниками разговор о праве копииста восстанавливать то, что в оригинале уничтожено временем; разговор у Бейля остроумен и колок, говорил он громко, явно вызывая Брюллова отвечать, — Карл отмалчивался. Когда работа подходила к концу, все чаще стали появляться в Станце шумные римляне, в городе заговорили, что русский «оживил» Рафаэля.
Но Брюллов, кажется, и не думал об этих нанесенных веками утратах. Полотно Рафаэля одно, объяснял Брюллов, «заключает в себе почти все, что входит в состав художества: композицию, связь, разговор, действие, выражение, противоположность характеров… простота, соединенная с величественным стилем, натуральность освещения, жизнь всей картины, — все сие кажется достигшим совершенства!» И на этом пути постижения совершенства ему было не до осыпавшейся краски, не до потертостей, не до трещин. «Афинская школа» стала для Брюллова подлинно школой, — проникая в громадный мир Рафаэля, он учился овладевать громадным замыслом и громадным пространством.
По соседству, в Станце дель Инчендио, Рафаэль написал фреску «Пожар в Борго». Рушатся стены дома, примыкающего к Ватикану, в помещениях бушует огонь. Площадь заполнена людьми — одни передают друг другу сосуды с водой, другие, стоя на коленях, просят папу, показавшегося в лоджиях Ватиканского дворца, остановить пожар крестным знамением. Слева на первом плане, быть может, прекраснейшая группа фрески: юноша на плечах выносит из горящего дома старого отца; рядом, одеваясь на ходу, спешит мальчик, младший сын старика. («…Видны два молодые помпеянина, несущие на плечах своих больного старого отца, — уже в раннем эскизе обозначил Брюллов один из „группов“ будущей „Помпеи“. И не удержался: — Между ног детей прячется верная собака…»)
Он все не мог найти лица женщины, прижимающей дочерей. Набрасывал ее со спины и в некотором отдалении, но в каждом рисунке, каждом эскизе она все требовательнее заявляла свое право быть одной из главных героинь картины.