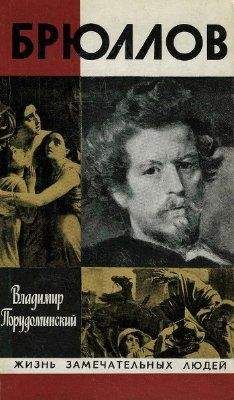…И когда над декабрьским Петербургом сгустились сумерки, ряды солдат, стоявшие против мятежных полков, расступились в обе стороны, и между ними выехала вперед батарея артиллерии. Жерла выровненных в линию орудий были близки, черны и несговорчивы. Порывистый ветер пронес над головами клочья команды. Воздух на мгновенье заалел всполохом. Залп встряхнул площадь. Первые ядра картечи ударились о землю, поднимая столбы снежной пыли. А над пушками снова вспыхнула и погасла красная зарница. Грохот выстрелов слился в сплошной гул. Черное тело толпы метнулось к Неве, и шорох тысяч одновременных торопливых шагов, тяжелое одновременное дыхание тысяч грудей, судорожно втягивающих и выталкивающих морозный воздух, стоны и причитания раненых и раздавленных были страшнее орудийного грома. Бомбардиры между тем споро меняли наводку, пушки били по Исаакиевскому мосту, по набережным, по синему затоптанному снегу реки, по Васильевскому острову. А через час, когда все было кончено, красные на морозе бивачные костры, разожженные на площади, прилегающих улицах и вдоль набережной, озарили ночное небо…
Ужинали втроем: Карл, Кипренский и Соболевский, молодой русский путешественник, — он привлекал Карла проницательным умом, обширностью познаний, живой беседой и пренебрежением к правилам поведения. За окнами давно стемнело, зал кафе опустел, толстый хозяин, умаявшись за день, присел на табурет и дремал, облокотившись о стойку.
— И словно не рассвело, — сказал гигант Соболевский; он, казалось, ростом стал меньше и сузился в плечах, вспоминая тот декабрьский Петербург, который острой, незыблемой памятью растворился в крови целого поколения. Орест сумрачно кивал, прибавлял все новые явившиеся перед глазами подробности и пил вино большими глотками. Дым сигар плавал в желтом свете свечей, как пороховые облака плавают над полем брани в час заката. И Карл чувствовал, как эта площадь, отделенная от него сотнями верст и тысячами прожитых без нее дней, как это молчаливое каре, эти багровые всполохи, орудийный гул, движение потрясенной толпы входят в него, растекаются по его жилам, отдаются в биении его сердца, становятся его болью, тревогой, памятью.
«Какое блаженство дышать весенним воздухом после долгой болезни! Ведь и зима — болезнь, страдание земли…» Так писала в путевых тетрадях Зинаида Александровна Волконская, княгиня Зенеида, как называли ее в свете, оставив сумрачную, холодную Россию и поспешая в Рим, смолоду ею любимый. И добрый друг ее, поэт Евгений Баратынский, глядя на серебристые папоротники, вытканные на окнах запоздалым морозом, стихами провожал княгиню «из царства виста и зимы… на юг прекрасный»: «Там лучше ей…»
Соболевский рассказывал у Гагариных (Екатерине Петровне он приходился родней) про известную всей Москве любовь к Волконской молодого поэта Веневитинова. Любовь была возвышенная, молитвенная и безнадежная. Чтобы утешить юношу, Волконская подарила ему перстень, найденный при раскопках Геркуланума. Веневитинов надел перстень и завещал похоронить себя с ним. Ждать долго не пришлось. После декабрьских событий салон Волконской опустел: одних не стало, другие боялись приходить, третьих не хотелось видеть. Вздохнув, Веневитинов отправился в Петербург — служить. То ли по навету, то ли по ошибке по приезде в столицу он был арестован. Две недели в холодном помещении гауптвахты, унизительный допрос, а юноша слаб здоровьем и не в меру впечатлителен. Скоро опустили его в могилу, как завещал, с перстнем на пальце. Было поэту от роду двадцать два года.
…Кто знает, думал Карл, быть может, в Геркулануме, нашедшем гибель той же ночью, что и Помпея, жил юноша поэт, и женщина, предмет его вдохновенной любви, однажды надела ему на палец свой перстень. И не суждено ли этому же перстню спустя столетия снова стать знаком любовной преданности? И какая судьба ждет будущего его владельца? Не приговорен ли и он безжалостным роком?..
Зинаида Александровна Волконская была красива и талантлива — писала стихи и прозу, сочиняла музыку и пела необыкновенно. Но, наверно, самый замечательный ее талант был собирать и удерживать возле себя одаренных людей: салон Волконской — в Москве или в Риме — был непременно Парнас. «Ты любишь игры Аполлона», — писал Пушкин в послании, к ней обращенном.
Гальберг, прослышав о скором приезде Волконской, закраснелся от радости: с ее появлением немало хорошего прибавится в Риме. Он знал Волконскую еще в прежние годы ее итальянской жизни: помогал ей переводить Шиллерову «Жанну д'Арк» — ставили оперу, либретто Зинаида Александровна сама изготовила, сама сочинила музыку, сама пела. Но на этот раз он с княгиней разминулся: объявлено было Гальбергу, что пенсионерству его конец, пора возвращаться в Петербург.
Между тем в римском Палаццо Поли, купленном княгиней, а немного спустя и на вилле ее, мимо которой неторопливо шествовали увитые плющом арки древнего водопровода, зазвучала музыка. Было время шумных успехов Россини, Беллини, Доницетти, да и старики, Перголезе или Чимароза, как и при жизни, восхищали слушателей. Тонкий знаток музыки Анри Бейль-Стендаль высоко ценил концерты, которые устраивали в Италии русские меценаты.
Слушая музыку, Карл вспоминал Леонардо да Винчи: «Музыку можно назвать сестрою живописи… Гармония в ней строится сочетанием пропорциональных частей, создаваемых в единое мгновение…»
Русский музыкант граф Матвей Юрьевич Виельгорский даже избалованных итальянцев поразил игрой на виолончели. «Так, должно быть, играют ангелы в раю», — повторяли восхищенные слушатели. Брюллов написал Виельгорского почти в рост, сидящим с виолончелью в руках. Это один из первых больших портретов Брюллова: «большой» значит не только и не столько размер холста, сколько размах изображения. «Человек в связи с целым миром», — говорил про свои большие портреты Брюллов. Матвей Юрьевич посажен на фоне тяжелого занавеса, чуть сдвинутого в сторону; в просвете открывается вид на Везувий. Но больше, чем туманные дали за спиной музыканта, больше, чем вулкан, дымящийся на горизонте, связывает этого человека с миром виолончель в его руках. Не просто музыкальный инструмент, но инструмент, на глазах зрителя рождающий музыку. Музыка — в благоговейном и величественном прикосновении смычка к струнам, в крупных, одновременно уверенных и нежных руках Виельгорского, в его сосредоточенном, суровом даже лице — он напряженно прислушивается к звукам, его наполняющим, которые необходимо ему передать движениями рук и смычка. Брюллов заставил звучать на холсте голос души музыканта, голос, который открывала людям его виолончель. Человека, как его написал Брюллов, связывает с целым миром музыка, которую он в мир приносит.