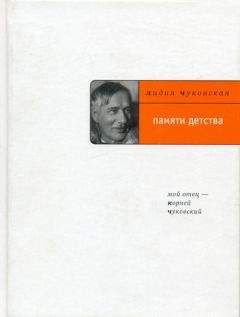«…по-настоящему мне следовало бы бросить всю литературу – и заняться детьми – читать им, рассказывать, развивать их, звать их к достойной человеческой жизни, а без этого – одна раздача книг – бесполезна».
Эти строки промелькнули и не повторились более. Конечно, он всегда сознавал, что в библиотеке одна раздача книг недостаточна, и потому устраивал два раза в год «Костры» при участии актеров, акробатов и поэтов и постоянно упорно просил интеллигентных людей всех профессий, окружавших его, приходить в библиотеку, беседовать с детьми.
Это он совершал и до приведенной мною столь необычной записи, и после нее. Но «бросить всю литературу», то есть собственный литературный труд, и заняться детьми, только детьми, как сказано в этой записи, – он не мог. На такое самоотречение у него никогда не хватило бы сил. Литература, художество, книги, чужие и собственные, были для него и остались до конца дороже всего на свете. И как бы он ни был занят детьми – литературным трудом он был поглощен с головой.
В десятые годы нашего века, в куоккальскую давнюю пору, он был одним из самых известных и самых звонких критиков России. С трудом критика не могло тогда разлучить его ничто, даже интерес к детям. Да и в детях выискивал он художнические черты прежде всего или, во всяком случае, ценил в них племя, наиболее восприимчивое к художеству изо всех племен Земли. Сам он ощущал себя прирожденным критиком, инструментом, созданным для восприятия искусства, и действительно был им, воспринимая стихи и прозу, классическую и современную, не только глазом и ухом, но словно бы и кончиками пальцев, и всей своей кожей. Он был фанатиком литературного труда. Искусством он был одержим.
Он написал, перевел, проредактировал за свою долгую жизнь тысячи страниц. Филология, история литературы, текстология, мемуары, примечания. Литературные портреты, критические статьи.
«Редко встречал человека, – писал о нем в 1914 году Анатолию Федоровичу Кони Илья Ефимович Репин, – столь достойного книг… Его феноменальная любовь к литературе, глубочайшее уважение к манускриптам заражает всех нас…»[22]
Из эвакуации, во время войны, он, уже знаменитый сказочник, писал своему другу:
«Я (может быть, слишком поздно) понял, что основное мое призвание – характеристики, литер [атурные] портреты, и мне было весело работать над ними».
Критиком, ценителем искусства он был по призванию. Был рожден им.
28 октября 1968 года, за год до смерти, работая над собранием своих сочинений и пересматривая свои критические статьи десятых и двадцатых годов, написал мне:
«Я поглощен своим седьмым томом: в нем будут лучшие мои статьи. Эх, хорошо мне когда-то писалось, а я и не подозревал об этом. Не было такого дня, когда бы я был доволен собою, своей работой, и только теперь, через тысячу лет, я вижу, как добросовестно и старательно я работал».
О своей преданности литературному труду он мог бы сказать теми словами, какими Репин написал однажды о собственной. Тут все несопоставимо – сопоставимо лишь одно: жизнь в искусстве. Для обоих труд в искусстве был основой жизни.
«…искусство я люблю… больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей, – писал Репин. – Люблю тайно, ревниво, как старый пьяница, неизлечимо… Где бы я ни был, чем бы ни развлекался, кем бы я ни восхищался, чем бы ни наслаждался… Оно, всегда и везде, в моей голове, в моем сердце, в моих желаниях лучших, сокровеннейших. Часы утра, кот[орые] я посвящаю ему, – лучшие часы моей жизни. И радости, и горести, радости до счастья, горести до смерти, все в этих часах, кот[орые] лучами освещают или омрачают все эпизоды моей жизни»[23].
Да, Корней Чуковский любил детей и много отдавал им себя. И многое от них получал: непосредственное веселье, и «сердитки», и «мазелин». Но смыслом его жизни было искусство. Он и детей-то любил прежде всего за их творческое отношение к миру: за восприимчивость к природе, к игре, к поэзии. За то, что они, как маленькие боги, творили слова.
«Нужно уважать детскую душу, – писал он в статье «О детском языке», – это душа создателя и художника»[24].
Критик Корней Чуковский был художником. Без этого не понять ни замысла его критических статей, ни причины их воздействия. Он работал над ними, как другие работают над стихами, выстраивал абзацы как строфы, подчиняя движение мысли и образов ритму – скрыто присущему всякой прозе, – проверяя вес, возраст, звук каждого слова, вслушиваясь в то, как звучит оно рядом с другими; и готовил написанное для чтения вслух. Статьи его (в не меньшей степени, чем сказки) рассчитаны на громкое чтение в многолюдном зале, где, слушая, не должен ни на минуту соскучиться, зевнуть, заговорить с соседом ни один человек.
Отсюда разнообразие внутренних жестов, выраженное в разнообразии интонаций, крутизна и неожиданность поворотов – все рассчитано на слушателя, хотя статьи писались для газетных полос и книжных страниц.
«Лекцию дописывал в поезде»[25], – сообщал он из одной поездки по провинциальным городам.
«Дописывал лекцию» – то есть нечто, подлежащее громкому чтению.
«Певучесть», звучность его статей, подчиненность мысли движению ритма чувствовали многие, в особенности поэты. Ольга Дьячкова, поэтесса, слушавшая лекции Корнея Ивановича в студиях «Всемирной литературы» и «Дома искусств», написала о них такие стихи (портрет его самого, портрет его лекций-статей и манеры чтения):
На самых скучных лицах меньше скуки.
Идет. Еще один аршинный шаг —
И на столе живут большие руки
Вокруг больших внушительных бумаг.
Вот вкрадчивым, приветливым вступленьем
Погладил публику, как будто лапкой кот,
И как артист, влюбленный в исполненье,
Свою статью торжественно поет.
«Петь» можно только то, что подчинено ритму.
Справку или протокол – не споешь.
Критические статьи Чуковского, в особенности молодые, принято было раньше, принято и сейчас обвинять в субъективности.
Обвинение справедливое: они субъективны не в меньшей степени, чем любые лирические стихи.
Обвинение несправедливое: они субъективны по крайнему своеобразию мысли и стиля, не в меньшей степени, чем своеобразен был голос, произносивший их. Однако, как и всякий художник, Корней Чуковский стремился (пусть собственными, субъективными средствами) выразить суждение объективное. Насколько ему это удавалось – вопрос другой. Мне лишь важно подчеркнуть, что статьи его надо измерять теми мерками, которые мы прилагаем к искусству, а не теми элементарными: «правильно – неправильно», какие прилагаются обычно к критическим статьям. Так, например, его статья о Леониде Андрееве – художественное произведение в не меньшей степени, чем рассказы Андреева, которые в ней критикуются, или, точнее говоря, изображаются. Сам он, хотя и был невысокого мнения о своем даре, ощущал себя во время работы художником.