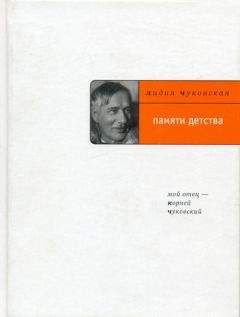Характерны в этом смысле признания, сделанные им в нескольких письмах.
Настаивая на том, чтобы Тамара Григорьевна Габбе, в сотрудничестве с друзьями, написала историю литературы для детей, он предлагал ей – в 1939 году – написать портреты писателей – Пантелеева, Житкова, Ильина, Барто, Введенского, Хармса, Паустовского, Катаева, Зощенко – и при этом счел необходимым предупредить:
«Импрессионизма бояться не нужно», – не нужно потому, что статьям должен быть придан научный аппарат.
«…весь этот научный аппарат будет служить для читателя компенсацией. Им будут парализованы те черты кажущегося дилетантизма, которые неотъемлемы от всякой импрессионистской характеристики»[26].
Тут важное автопризнание. Статьи Корнея Чуковского импрессионистичны, основа же для импрессионистической статьи – изучение, научность.
В 1920 году, в письме к Горькому, Корней Чуковский, определяя свой критический метод, прямо говорит, что критик обязан быть ученым и художником вместе:
«Я изучаю излюбенные приемы писателя, пристрастие его к тем или иным эпитетам, тропам, фигурам, ритмам, словам и на основании этого чисто формального, технического, научного разбора делаю психологические выводы, воссоздаю духовную личность писателя… Наши милые «русские мальчики»… стоят за формальный метод, требуют, чтобы к литературному творчеству применяли меру, число и вес, но они на этом останавливаются: я же думаю, что нужно идти дальше, нужно на основании формальных подходов к матерьялу конструировать то, что прежде называлось душою поэта… Критика должна быть универсальной, научные выкладки должны претворяться в эмоции. Ее анализ должен завершаться синтезом, и покуда критик анализирует, он ученый, но когда он переходит к синтезу, он художник, ибо из мелких и случайно подмеченных черт творит художественный образ человека»[27].
В конце жизни Корнею Чуковскому дана была степень доктора филологических наук. Это естественно: он был ученый. Но он «творил образ человека» – был художник. Приемы его собственных критических статей – приемы художника. Слабого или сильного, вопрос другой, но вне этого ключа они определению не поддаются. Будущие исследователи станут изучать стилистику его статей, как уже изучают ныне стилистику его сказок. На Корнея Чуковского неизбежно найдется свой Корней Чуковский. И прежде всего изучит он, думается мне, те приемы, которыми достигалась двуадресность. Критик должен сказать свое слово так, чтобы его поняли не только изощренные слушатели, «но и желторотый студент и комиссариатская барышня», – заявлял Корней Иванович в письме к Горькому.
Критическая статья, стало быть – это послание, отправленное по двум адресам. Оно может достичь обоих адресатов только в том случае, если критик обладает художественным даром.
Критик-фельетонист Корней Чуковский обладал им.
«Бросить литературу!» – этого он не мог.
Его «радости до счастья, горести до смерти» – все было в тех часах, когда он писал.
«Сколько забот о стиле, о композиции, – признавался он в 1923 году, – и обо многом другом, о чем обычно не заботятся критики! Каждая критическая статья для меня – произведение искусства (может быть, плохого, но искусства!), и когда я писал, напр[имер] свою статью «Нат Пинкертон», мне казалось, что я пишу поэму»[28].
(Характерны эти поиски названий: «Критические рассказы», «Рассказы о Некрасове», «Портреты современных писателей». И вот новое определение: оказывается, свои статьи он ощущал как поэмы.)
Я помню, зимою, в Куоккале, когда он погружался в сочинение очередной своей «поэмы», он убегал из тепло вытопленной своей дачи, от благоустроенного письменного стола, в чью-нибудь чужую, нежилую, пустую, в промерзший дощатый сарай и часами, а то и сутками писал там, без стола, в пальто, в валенках и шапке, сидя на полу, на газете, притулившись к стене. Один, в полной отрешенности от людей. Наверное, именно в эти минуты казалось ему, что он пишет поэму. В руках дощечка с бумагой, опертая на острые колени, и карандаш. Кругом, на полу, раскиданы книги и исписанные листы. Изо рта валит пар.
В те часы и сутки, когда он писал статью или, по его ощущению, поэму, он жаждал одиночества: книга, о которой он пишет; поэма, которую он пишет; свеча, запас бумаги, чернил, карандашей – и чтобы ни единой живой души рядом. Никого поблизости – ни чужих, ни своих. Он требовал полной тишины, и притом защищенной, надежной. Как в броне. Как во сне. Что касается нас, детей, то от нас требовалась одна дружеская услуга: провалиться сквозь землю. На какой срок, неизвестно – во всяком случае, пока он работает.
Наш отважный мореплаватель, наш предводитель в любой игре, в любом путешествии, в лодке, на лыжах и под парусом, наш строгий наставник, наш бесстрашный капитан, наш веселый, ребячливый, бурный и добрый отец превращался в угрюмого, озлобленного, чужого господина средних лет – желчного, недовольного всем на свете и требующего от всех одного: не приставать к нему, не заговаривать с ним, да и вообще не разговаривать, хотя бы и между собою. Вообще – не быть. Папа превращался в не-папу.
Случалось, мы чувствовали заранее, как безотцовщина подкрадывается к нам, подползает исподволь, как папа постепенно превращается в не-папу, – превращение угадывалось в его сосредоточенном унынии, в кратких, резких и по большей части несправедливых попреках. В той поспешности, с какой он хлебал суп или, не жуя, глотал котлеты – только бы побыстрее отделаться, дохлебать, проглотить и уйти. Лето – не зима; летом все дачи кругом заняты, всюду шум, значит, через три ступеньки к себе наверх. «Лида, Коля, Боба! – говорит мама. – Ступайте на берег, оттуда вас не слышно». Такое постепенное осиротение еще можно перенести. Мы привыкли. Но внезапное! Секунду назад он папа и вдруг, через секунду, не-папа! «Воздух искусства», дышать которым, по словам Корнея Ивановича, «посчастливилось» нам, содержал в себе не одни лишь чары, но и яд. Трудное было наше счастье. Создавая очередную «поэму», Корней Иванович, случалось, проваливался в воздушную бездну. Не по своей вине (да и не по нашей!) он внезапно срывался в воздушную, словно в морскую, глубь, и неизвестно было ни нам, ни ему, когда он угодит в нее и когда из нее вынырнет….Вот мы – я и папа идем по Большой Дороге. Одеты, обуты, причесаны: мы не в лавочку, мы в город, в Петербург. Колю папа уже несколько раз брал с собою: в Музей Александра III, в Эрмитаж. А меня впервые. Коля хвастается, что видел картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» – это про землетрясение, а я нет. Сегодня увижу. Коля уже видел над Невою каменных сфинксов, а я нет. Сегодня увижу. Папина лекция в зале Тенишевского училища вечером, а мы отправляемся с утра, и целый день наш: мне папа покажет «Помпею», сфинксов, а меня покажет доктору. Докторов я, конечно, терпеть не могу, да и ничем, в сущности, не больна: просто один здешний доктор говорит, удалять надо гланды, а другой здешний – не удалять. Сегодня решит петербургский. Мы записаны к нему на прием.