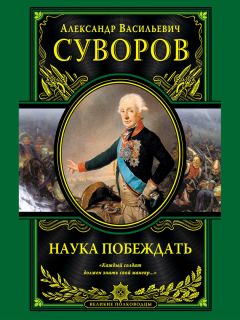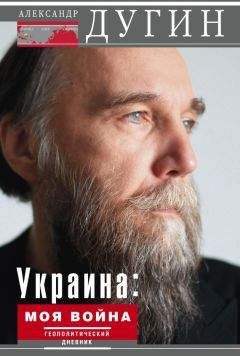– А такие гиганты, как Державин, как Карамзин? – с силой спросил Вяземский. – А такие гиган? ты, как Озеров, как Дмитриев?
– Ну, уж Озеров никак не гигант, – Пушкин упрямо тряхнул головой.
– Но помилуй, Озеров – поэт! – У Вяземского от напряжения заиграли желваки широких скул.
– Какой он стихотворец! – Пушкин развел руками: дескать, делай со мной что хочешь! – В его стихах ни благозвучия, ни чувства…
Вяземский резко остановился. Он буравил Пушкина острым взглядом своих маленьких, глубоко сидящих глаз и возмущенно возводил брови.
– Праведные за грешников не отвечают. Несколько слабых стихов не отнимут у остальных прелести и достоинства!
Воздев руки, он продекламировал:
Я удалился вас и оных мест священных,
За волны шумные, в страну иноплеменных…
Но Пушкину вспомнились другие стихи. Он тоже продекламировал:
…Он дал мне нову жизнь, для сердцу чувства новы,
И огнь, палящий огнь пролив в моей крови…
Стих неповоротлив, непрозрачен, шероховат. Точность лишь приблизительная, а что может быть хуже этого?
Их оценки не сходились. А ведь они оба были арзамасцы.
Устав от спора, с раскрасневшимися лицами, они опустились в кресла. Помолчали.
– Зато Озеров – трагик! – сказал Вяземский.
– Трагик? Но. что это за изображение Дмитрия Донского? Должно все же сочетать вымысел с верностью историка. И помилуй – можно ли так слепо следовать правилам французского театра?
– Я бы согласился относительно Майкова, – сказал Вяземский. – В его комических поэмах нет комической веселости…
– Да как же так! – Пушкин вскочил со своего места. – Да его «Елисей» истинно смешон.
– Ну, уж прости… – Вяземский тоже поднялся. И они снова забегали по комнате.
– Неужто ты не ценишь Дмитриева? Неужто ты не понимаешь, что Дмитриев истинно велик!..
– Нам нужно свое – русское, национальное. А в Дмитриеве нет ничего русского, своего…
– Своего! Вот и в твоей «Вольности» некоторые стихи – совершенно херасковские.
– Как это – херасковские?.. – Волна крови хлынула в лицо Пушкину.
– Вот так – херасковские…
– Как это – херасковские?..
Они остановились друг против друга. Спор, кажется, мог завести слишком далеко…
– Мы не можем с тобой разговаривать, – сказал Вяземский. – Я туг, несговорчив, неподатлив. А ты – оскорбляешься.
– У меня свое мнение…
Да, спор мог завести слишком далеко. А ведь у них были общие враги…
И они договорились пойти на заседание в Российскую Академию, на торжественную церемонию принятия в Академию вождя арзамасцев – Карамзина.
Бессмертною рукой раздавленный зоил,
Позорного клейма ты вновь не заслужил!
Бесчестью твоему нужна ли перемена?
Наш Тацит на тебя захочет ли взглянуть?
Сколько споров разгоралось! Казалось, от того, как оценить русский стих Хераскова, или шестистопный ямб Ломоносова, или «Эпистолу» Тредиаковского, или десятистишие Осипова – зависит весь дальнейший путь…
Так могло быть только при становлении новой литературы!..
Давно заседание Российской Академии не вызывало столь большого стечения публики. Возле старого, ветхого здания на Васильевском острове – с флигелем для типографии, с хозяйственными пристройками и длинным забором вокруг сада – выстроился ряд карет. Зал был переполнен, кресла пришлось снести из остальных помещений…
Академики – большинство в париках – заняли места; почетные гости – члены Государственного совета, министры, сенаторы – уселись вблизи круглого стола.
Журналист, готовящий отчет о собрании, записал в свою тетрадь:
«Зрелище восхитительное! Видишь особ, отличенных саном и породою, наравне с незнатными любимцами и любителями муз. В одном обществе видишь духовных, чиновников, грозных воинов, неустрашимых мореходов, мирных служителей науки…»
Сам министр народного просвещения и духовных исповеданий князь Александр Николаевич Голицын – с короткими ногами, крупной головой и мясистым лицом – был здесь. А неподалеку от него сидел – с гордо вскинутой головой и любезной улыбкой на надменном лице – министр внутренних дел граф Кочубей, при лентах и орденах.
Пушкин смотрит вокруг с живым любопытством. По стенам зала развешаны были портреты знаменитых деятелей Академии – Ломоносова, Кантемира, Олсуфьева, Елагина, митрополита Самуила, Татищева… Заседание начиналось, как обычно, в одиннадцать часов, и яркий свет зимнего дня лился сквозь высокие окна.
Вот поднялся, затянутый в морскую форму, старик – прямой и строгий – президент Российской Академии адмирал Александр Семенович Шишков.
– Почтенные сочлены! – Голос его звучал как обычно негромко и глухо. – Милостивые государи! – Бледное его лицо с резкими чертами и разросшимися бровями, казалось, выражает лишь холодность и неприветливость.
Но уже Пушкин не мог, как верный арзама-с е ц, видеть в нем только врага. Этот старец принадлежал истории, за плечами его вставали война двенадцатого года, пламенные манифесты, слава отечества…
– По утвержденному уставу Российской Академии, мы ежегодно избираем на имеющиеся упалые места…
Упрямый Шишков оставался верен варяго-русско-му своему языку, и слово, употребляемое им – упалые, – назавтра, конечно, обойдет весь Петербург, вызвав у одних смех, а у других – восхищение.
Шишков сказал вводную речь о любви к отечеству.
– Совместны ли между собой две любви – к иностранному и к своему? – По своему обыкновению он поднял вверх указательный перст. – Отечество, страна, где мы родились, колыбель, в которой мы взлелеяны, гнездо, в котором согреты и воспитаны. Отдадим все силы отечеству!.. Но какая труба удобнее внушит глас свой в уши и сердца многих, как не книга? Книга опасна. Неверие может извергать смех и кощунство, лжеумствование – бросать свои плевелы, злочестивая душа – возбуждать склонность к злонравию. Так лучше не иметь ни одной книги, чем иметь худые…
А потом поднялся действительный член Российской Академии господин статский советник Николай Михайлович Карамзин.
Вот ради того, чтобы послушать знаменитого писателя, автора «Истории государства Российского», множество людей и съехалось сюда. Слава его была в зените. Этот человек заглянул в прошлое Российского государства. Теперь этот человек должен ответить на вопрос, который жгуче всех волновал: что дальше ожидает Росеию? Каким дальше пойдет она путем?
В торжественный этот день к парадному фраку Карамзина пришита была орденская звезда… Внутреннее волнение заставило его побледнеть. Иссеченное глубокими складками лицо, нимб седых волос вокруг головы опять сделали его похожим на пророка…