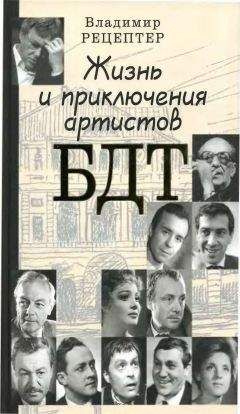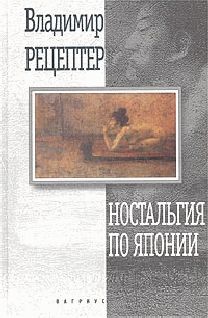Демич-младший легко вписался в труппу, но был нетерпелив, нервен и, видимо, донимал Мэтра открытыми требованиями. Однажды он в сердцах швырнул заявление об уходе, но после драматической сцены в кабинете Мастера, где, по словам Дины, Юра плакал, а Гога дрогнул и пообещал ему повышение зарплаты и звание, Демич-младший заявление забрал.
В тот момент артист Р. поставил себе в пример поведение артиста Д.: «Вот как надо биться за свое положение!» Но себя не переделаешь, и в трудных случаях Р. по-прежнему замыкался в себе и отдалялся от Гоги.
Что касается Юры, то иногда казалось, что ему просто нравится роль бесшабашного гуляки или беспутного гения, навеянная, может быть, отчасти образом любимого отца, отчасти рассказами о Паше Луспекаеве, хотя все, кто знал самого Пашу, эту роль оставляли за ним одним и ни в какие сравнения не входили.
У Юры Демича, судя по репликам той же Дины, были какие-то сильные покровители в Москве. Они и помогли ему переехать в столицу, когда на спектакле «Амадей», где Стржельчик играл Сальери, а Демич — Моцарта, разразился скандал и отношения с Гогой стали невосстановимы.
Оглядываясь на короткие и малозначащие разговоры с Юрой, на его роли и романы, возникавшие на наших глазах, я думаю не о грехе пьянства и женолюбия, а о какой-то внутренней трагедии, которой он не мог поделиться ни с кем.
Кроме Гамлета и Моцарта (Д. сыграл у Шеффера, а Р. — у Пушкина) позже возникло еще одно сближающее обстоятельство. Отец Юры, Александр Иванович, переехавший вслед за сыном из Самары в Ленинград, поменяв трехкомнатную квартиру на волжской набережной на питерскую коммуналку, был похоронен на театральном участке Северного кладбища в Парголове в ближайшем соседстве с общим участком, где упокоились отец и мать артиста Р., тоже в свое время переехавшие в Питер вслед за своим сыном.
Утром того дня, когда должна была состояться токийская премьера «Ревизора», мы шли по какой-то скромной улице, и Стриж рассказывал о приеме у посла, на котором были четверо: Гога, Кирилл, Лебедев и он. Стриж снова был не в духе, его возмущало и то, что похожий на японца Павлов не знал, на сколько дней мы приехали, и то, какую выпивку на приеме давали и как подавалась эта выпивка, а особенно то, что четырех сувенирных ручек не хватило на четверых, и послу пришлось во второй раз посылать за ручками, после чего ручек уже хватило.
Рассказы Владика о любой чепухе всегда были очень эмоциональны и зажигательны, потому что он был прирожденным артистом и должен был играть, играть, а «Амадея» не привезли, и за все сорок дней на островах у него были только «Мещане», два или три спектакля, черт знает что!.. Вот он и проигрывал в сердцах любую японскую сцену.
Навстречу нам показалась веселая процессия пожилых японцев, над которыми реял национальный флаг: алый кружок — восходящее солнце. Люди шли посреди улицы, таща на плечах нарядную пагодку, и радовались жизни. Старушки в скромных кимоно с наслаждением били в бубны; старик наяривал на каких-то клавикордах, висящих у него на шее и вовсе не похожих на аккордеон; в такт веселым шагам он еще посвистывал в сладкоструйный свисток. В толпе гремели погремушки, нежничали флейты, а большой барабан был украшен красными цветами и скрывал маленького барабанщика.
Среди шествия, на которое мы смотрели как на спектакль, кружилось несколько актеров-мужчин, отдавшихся женскому танцу, и благодарные зрительницы, подбегая, совали им деньги — за пояс или за пазуху. Один из удачников, видимо для примера, показал нам две толстые пачки по сто иен. Шествие смахивало на узбекскую свадьбу, с карнаем, зурнами и дарением денег, только молодых не было заметно, и, наверное, поэтому никто из нас даже не подумал совать свои иены за японские пазухи…
А когда колонна миновала, наша компания — Стриж, Волков и мы с Розенцвейгом — оказалась у старинного буддийского храма, в котором готовились похороны.
Приняв нас за американцев, один из «белых воротничков» объяснил по-английски, что хоронят человека дворянского звания, который всю жизнь прослужил в крупной туристической компании и вот, снискав заслуженное уважение сослуживцев и родственников, скончался, завещав часть денег своему храму…
У входа в дом Будды цветы и зеленые камни составляли печальную икебану, в центре которой бил родник с «народной водой». Это значило, что вода — общая и за нее не нужно платить. И мы попили «народной воды» из медных черпачков с длинными ручками. Когда много ходишь пешком, хочется пить.
Сцену чтения хлестаковского письма Товстоногов посвятил памяти Мейерхольда. Он сам об этом не раз говорил и решал ее отчасти как цитату из знаменитого мейерхольдовского «Ревизора». И костюмы шились по эскизам Мстислава Добужинского, сделанным для спектакля погибшего Мастера. И здесь позволю себе небольшое костюмное отступление.
Читатель, никогда не бывший за кулисами и ни разу не вдыхавший сладковатый нафталиново-пыльный запашок большого театрального гардероба, должен простить автора за эту экскурсию. Каждый висящий на распялке костюм, независимо от изношенности, вместе с именем своего создателя — художника приобретает еще одно и, может быть, главное имя — носителя, то есть артиста, с коего снимали мерку, два, а то и три раза отправляли в мастерскую подгонять, подрубать и приталивать, наконец, торжественно облачали и вместе с костюмом выводили на специальный просмотр накануне генеральных репетиций и мероприятий с начальством и публикой.
Поэтому зеленый фрачный мундир со вставкой песочного цвета на груди и оттопыренными проволокой фалдами, в котором его носитель отчасти напоминал кузнечика, должен по праву и до конца своих дней называться костюмом Добужинского-Лёскина. А в связи с тем что к моменту японских гастролей артист Боря Лёскин успел эмигрировать в Америку, мундир по нем тосковал и ждал несбыточной встречи.
Это люди думали, кого бы внедрить в зеленый фрачный мундир с песочною вставкою, а сам он до последней петли и пуговицы хранил собачью верность отчаянному хозяину, мыкающему первое горе в равнодушных Штатах…
Костюм Коробкина, сшитый на покойного Мишу Иванова, Юре Демичу в сотрудничестве отказал. Он никак не предвидел в своем дорогом носителе ни укрепления грудных мышц, ни расширения бедер, ни горделивого вытягивания вверх, и потому, категорически протестуя против Демича, был вынужден в тоске отойти к другому невольнику. Демич же обязывался на японских островах исполнить роль Коробкина как раз в характерном фрачном мундире Добужинского-Лёскина, который был нами представлен выше и хотя бы по своим внешним параметрам Юру принимал. И автор не исключает того, что, помимо субъективных моментов, относящихся лично к Юре Демичу, сама судьба противилась тому, чтобы ивановский Коробкин и коробкинский текст исходили изнутри того костюма, в котором артист Лёскин был призван не говорить, а молчать…