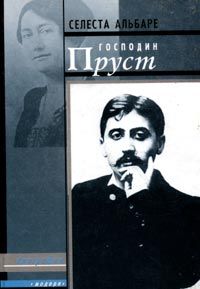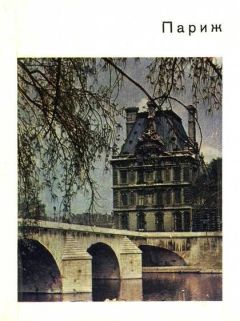Много говорилось, что Сван - это Шарль Аас, сын одного биржевого маклера, "лелеемый в закрытых салонах за свое изящество, вкус и эрудицию", член Жокей-клуба, баловень Грефюлей, друг принца Уэльского, графа Парижского, носивший, как и Сван, рыжий ежик на манер Брессана. Элизабет де Грамон делает любопытное замечание, что Haas по-немецки значит заяц, a Swanne - лебедь, и изящно транспонирует эту фамилию. Конечно, Аас дал некоторые черты Свану, но его поверхностная эрудиция была дополнена за счет другого из-раелита, Шарля Эфрюсси, основателя "Газеты изящных искусств". Тем не менее, Сван является прежде всего воплощением самого Пруста, который также ясно узнается в тех вариантах из Записных книжек, где молодой Сван выступает сначала героем приключений, приписанных затем Рассказчику. Позже (говорит Бенжамен Кремьё) Пруст, испытывая потребность изобразить две стороны своей натуры и одновременно свое еврейское и христианское наследие, разделил себя на два персонажа - Рассказчика Марселя и Шарля Свана; причем этот последний получил от него свою любовь к светскому обществу, болезненную ревность, аристократические знакомства, тягу к искусствам. Это подтверждается одним неизданным текстом из Тетрадей:
"Господин Сван... такой, каким я сам его знал, особенно такой, каким я узнал его позже из всего того, что мне о нем рассказывали, был одним из тех людей, к которым я чувствую себя ближе всего, и кого бы мог больше всего любить. Господин Сван был евреем. Несмотря на разницу в годах, он был лучшим другом моего деда, который, однако, евреев не любил. Это была одна из тех маленьких слабостей, одно из тех нелепых предубеждений, которые встречаются как раз у натур наиболее прямых, наиболее приверженных добру. Например, аристократические предрассудки у Сен-Симона, предубеждение некоторых врачей против дантистов, некоторых буржуа против актеров..." [149]
Сто раз писали, что Берготом был Анатоль Франс и, конечно, в некоторых пассажах Бергот близок к Анатолю Франсу. Он похож на него прежде всего своей бородкой, носом в форме улитки и стилем, редкими, почти архаичными выражениями, которыми любил подчас блеснуть, когда скрытая волна гармонии, некий внутренний прелюд возвышал его стиль; порой это случалось и в моменты, когда он принимался говорить о "тщетной грезе жизни", о "неиссякаемом потоке прекрасных видимостей", о "бесплодном и сладостном обмане - понимать и любить", о "трогательных изваяниях, навеки облагородивших почтенные и прелестные фасады соборов"; когда он выражал "целую философию, новую для меня, в восхитительных образах, о которых можно было сказать, что именно они пробудили это раздавшееся пение арф, аккомпанементу которых придавали что-то возвышенное..." Да, это Франс, но Бергот также Ренан, когда, встретив имя какого-нибудь прославленного собора, он прерывает свой рассказ, и "в мольбе, призыве, долгой молитве дает вольный ход своим излияниям, которые до тех пор были присущи его прозе". Но в другом месте Бергот это еще и сам Пруст, и рассказ о его смерти вполне сообразуется с несварением желудка, которое случилось у Марселя, когда он вместе с Жаном-Луи Водуайе посещал в "Зале для игры в мяч" выставку голландских художников.
Лору Эйман, тогда семидесятилетнюю старуху, очень задел портрет Одетты де Креси, которая получила от нее манию щеголять английскими словами, и, подобно ей, жила на улице Лаперуз; но Пруст оправдывался, и, похоже, чистосердечно:
"Одетта де Креси мало того, что не вы, но в точности ваша противоположность. Мне кажется, что при каждом произнесенном ею слове это угадывается с силой очевидности... Я поместил в салоне Одетты все довольно необычные цветы, которыми одна "дама с германтской стороны", как вы говорите, всегда украшала свой салон. Она признала эти цветы и написала мне, чтобы поблагодарить, но ни секунды не считала, будто стала из-за этого Одеттой. Вы говорите мне, что ваша "клетка" (!) похожа на ту, что у Одетты. Я этим весьма удивлен. У вас же был уверенный, смелый вкус! Если мне требовалось спросить название какой-нибудь мебели, ткани, я охотнее обращался к вам, нежели к какому угодно художнику. Очень неловко, быть может, но я, как раз наоборот, старался ясно показать, что у Одетты вкуса в меблировке было не больше, чем во всем прочем, что она всегда (за исключением туалетов) отставала от моды на целое поколение. Я не сумел бы описать ни квартиру на проспекте Трокадеро, ни особняк на улице Лаперуз, но я помню их, как противоположность дому Одетты. Даже если у них есть общие детали, это ничуть не больше доказывает, что я думал о вас, создавая Одетту, чем десять строчек, напоминающих господина Доазана, вкрапленных в жизнь и характер одного из моих персонажей, которому будут посвящены многие тома, означают, будто я хотел изобразить господина Доазана. В одной статье для "Эвр Либр"[150] я отмечал глупость светских людей, которые полагают, будто таким образом и вводят персонаж в книгу... Увы! Неужели я вас переоценил? Вы меня читаете и находите сходство Одетты с собой! От этого отчаешься писать книги. Свои-то я не очень твердо держу в уме. Тем не менее, могу вам сказать, что в романе "В сторону Свана", когда Одетта на прогулке едет в экипаже к Акациям, я думал о некоторых платьях, движениях и т. д. одной женщины, по имени Кломениль, которая была очень хорошенькая, но и тут опять, в ее тянущемся по земле платье, в ее медленной походке перед Голубиным тиром все было противоположно вашему типу элегантности. Впрочем, кроме этого мгновения (полстраницы, быть может) я, говоря об Одетте, вспоминал Кломениль всего один раз. В следующем томе Одетта выйдет замуж за "благородного", ее дочь станет близкой родственницей Германтов, с большим титулом. Светские женщины, кроме самых замечательных, понятия не имеют о том, что такое литературное творчество. Но в моих воспоминаниях вы-то как раз и были самой замечательной. Ваше письмо весьма меня разочаровало..."
Дипломатия? Возможно, но поверить, что романист может создать живой характер из одной-единственной реальной личности, значит показать себя невеждой в технике романа. Бальзак думал, что, с одной стороны, самые выдающиеся книги: "Манон Леско", "Коринна", "Адольф", "Рене"[151] содержат все элементы автобиографии, но, с другой стороны, что "задача историка нравов состоит в том, чтобы соединить сходные факты в одном-единственном полотне. Часто необходимо взять многие характеры, чтобы сотворить из них один; бывает также, ему попадаются чудаки, в которых смешное изобилует настолько, что, поделив его, они получают двух персонажей". Такова же и прустовская техника.