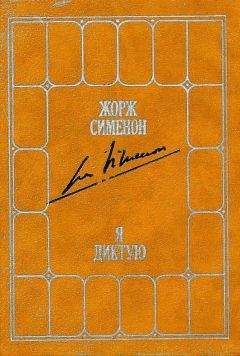Помнится, я уже говорил:
— Если украдут деньги, их можно как-то восполнить или ужаться, но кража времени — минут ли, часов ли — страшней: оно невосполнимо.
1 февраля 1975
Вчера я чуть было не совершил кражу. Во время нашей короткой прогулки по пустырю Тереза остановилась перед красивым камнем; сегодня утром я его тщательно осмотрел. Продолговатый камень яйцевидной формы, длиной сантиметров тридцать, розовый с чуть более светлыми прожилками.
И мне вдруг захотелось, чтобы этот камень лежал у меня в саду. Я чуть было не утащил его с собой. Но не посмел, хотя через несколько дней его, вероятней всего, закопают: здесь начнут строить.
Один журналист спросил, куда делись принадлежавшие мне картины. Он удивленно смотрел на голые стены, на которых не висело даже календаря. Я сказал, что картины в мебельном сарае. Журналист покачал головой, словно это его глубоко опечалило.
Вряд ли он знает, что для меня важнее продолговатый камень, который я увидел вчера, а сегодня как следует рассмотрел.
Красота — везде. Жизнь — тоже. И счастье.
3 февраля 1975
Только сегодня я осознал, что почти всю жизнь молчал. Применительно к человеку, написавшему более двухсот романов, из которых два или три наполовину автобиографические, это может показаться парадоксальным. И тем не менее это правда. Я молчал даже тем, что ни разу не опустил в урну избирательный бюллетень. Безусловно, уже в детстве у меня была тенденция к тому, что нынче называется «неприятием». Иначе говоря, я с трудом соглашался с общепринятыми представлениями среднего класса и верующих католиков.
Несколько раз это приводило к ссорам между матерью и мной, но, надо сказать, они длились недолго: я понял, что некоторые истины (или то, что я почитал истинами) высказывать бессмысленно; поэтому я молчал и в бесплатной школе у отцов миноритов, где начал учиться, и у иезуитов, где продолжал учение.
В шестнадцать лет я поступил в «Газетт де Льеж», самую католическую и консервативную льежскую газету. Ко мне там относились как к сорванцу, потому что из моих статей непроизвольно лезло какое-то бунтарство.
Но я знал, пользуясь нынешним выражением, докуда я мог доходить.
Из Льежа я уехал, когда мне еще не исполнилось двадцати, следовательно, до достижения избирательного возраста, и в Бельгии никогда не голосовал.
Обосновавшись во Франции, я должен был бы после совершеннолетия отсылать избирательный бюллетень в Льеж либо по почте, либо через посольство. Но я ничего об этом не знал. Меня не информировали. Официальных бумаг никто не присылал. Короче говоря, я ни разу в жизни не заходил в кабину для тайного голосования и никогда не имел случая выразить свои политические взгляды.
Во Франции я прожил долго. Писал. Накатал, если использовать профессиональный термин, довольно много статей. Но я всегда считал себя гостем в чужой стране. А гость не должен плевать в суп.
Поэтому-то более двадцати лет я не высказывал своих мнений. Не выражал вслух свои взгляды, хотя по романам можно представить их эволюцию.
Так же я вел себя и в Соединенных Штатах. Я не натурализовался там, был всего лишь гостем этой страны и потому не позволял себе, даже в беседах с друзьями, становиться на чью-нибудь сторону.
Что же касается моей частной жизни, я старался — и считал это своим долгом — не огорчать никого из моих близких и друзей.
Могу сказать без преувеличения, что боязнь огорчить, унизить или шокировать — одно из основных правил, которым я руководствуюсь уже долгие годы.
Моим девизом, как и девизом моего друга Мегрэ, всегда было: попытаться понять и не судить.
Сейчас я обосновался в Швейцарии и продолжаю рассматривать себя как гостя этой страны, отчего считаю себя не вправе выносить какие-либо суждения о ней. Это скорей удобно, чем неудобно.
Меня не трогают. И я никого не трогаю.
Но вот, перестав писать романы, я начал диктовать. Что же? Воспоминания, в чем-то точные, в чем-то сомнительные. Впечатления. И наконец, не стану скрывать, я высказал и продолжаю высказывать кое-какие мысли, которые уже долго бурлили во мне, но которые я держал при себе.
Вскоре я обнаружил, что если не хочешь никому причинить зла и намерен быть снисходительным, как и положено вести себя человеку по отношению к себе подобным, то зона свободы оказывается очень ограниченной.
Произведения, которые я диктую в течение уже двух лет и буду продолжать, возможно, кого-то возмутят своей откровенностью. Но откровенность эта обузданная. Обузданная рассудком. Хотя не из боязни ответственности. И не из боязни общественного мнения. И тем паче не из-за подозрительности некоторых моих будущих читателей.
Я снова пытаюсь в разумных пределах и в то же время так, чтобы не выдать полностью свои мысли, высказать наконец некоторые важные истины.
13 февраля 1975
Позавчера был счастливый день. Меня посетили три русских журналиста из агентства ТАСС. Ясное дело, они взяли у меня интервью и попросили сказать несколько слов русским читателям. Я был до сих пор уверен, что меня перевели примерно на десяток языков народов СССР, но тут узнал, что количество их гораздо больше. Признаюсь, мне было приятно. Приятно знать, что еще в одной стране я нашел людей, которые узнали себя в моих героях и, следовательно, заинтересовались ими.
А вчерашнее утро началось с того, что меня поздравила Тереза. Таков бельгийский обычай: в кругу семьи день рождения отмечается накануне официального и в некотором смысле формального юбилея. Это позволяет близким выразить свои пожелания раньше знакомых и тех, кому ты вообще безразличен.
И еще одна радость вчера утром. Г-жа Шрайбер, исследовательница моего творчества и переводчица моих книг в России, прислала мне очаровательную куклу в наряде русской крестьянки; ее веселыми, цветастыми юбками накрывают чайник или кофейник, чтобы он не остыл. Еще она прислала мне альбом из двух пластинок. На одной — очерк одного из крупных русских критиков о моем творчестве и обо мне. На другой — инсценировка моей повести «Семь крестиков в записной книжке».
Инсценировка сделана и записана с участием известнейших артистов страны.
Я не могу понять запись (она сделана на русском языке), но, должен признаться, она доставила мне огромное удовольствие.
3 марта 1975
У нас есть белка! Нет, разумеется, мы ее не купили. Кстати, а существует ли рынок, где можно купить белку? Думаю, да. Есть же рынки, на которых продается все, вплоть до живых — или мертвых — существ. Белка живет, конечно, не в клетке и тем паче не в колесе, которое она была бы вынуждена крутить днем и ночью.