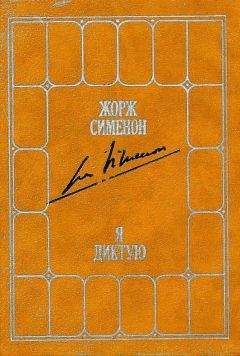Но я отнюдь не экономист, не психолог: я не кончал ни Национальной школы управления, ни Школы политических наук, ни университета. Я бросил коллеж в пятнадцать с половиной лет.
И все-таки, когда мне случается, как вчера, выпустить пар, на следующий день я чувствую себя чуточку скверно, словно влез не в свое дело.
Действительно, это не мое дело. Очень красиво говорится, будто в большинстве стран сейчас демократия, но человек с улицы, каковым я являюсь, не имеет права выбора. Конечно, он периодически опускает в урну бюллетень. Но чего стоит этот бюллетень?
Грош ему цена. В сущности, наверху оказываются те, кто цепляется за прошлое и лишь изредка соглашается на уступки ради настоящего и будущего, — призраки, как я только что сказал и, думаю, неоднократно уже говорил в этот микрофон.
Тем не менее я чувствую себя как бы виноватым. Виноватым в том, что сказал слишком много. В том, что открыл свои сокровенные мысли.
Неужели у всех этих министров, депутатов, важных персон, которые регулярно появляются на телеэкранах, совесть действительно чиста? Или они, как я, немножко стыдятся высказывать мнения, которые в отличие от моего являются не вполне их собственными?
Их утверждения зачастую настолько лживы или тенденциозны, что трудно поверить, будто они искренни. Ну, а если они искренни, то тогда эти люди настолько близоруки, настолько оторваны от действительности, что я даже колеблюсь, как их правильней назвать — слепыми идеалистами или идиотами? Они меня не интересуют, и я почти не общался с ними. Но мог наблюдать довольно близко и потому знаю, что их схватки на трибуне или на маленьком экране — одна видимость: на самом деле они все связаны приятельскими отношениями, а то и сообщничеством.
И если на публике представители двух противоположных партий обмениваются жестокой бранью, то за кулисами они на «ты» и пожимают друг другу руки.
16 декабря 1974
За свою жизнь я держал не только волков, мангуст, гусей, индюков, канареек, кур, экзотических птиц, не считая коров и лошадей, но еще и собак и кошек. Теперь же я не могу себе этого позволить, потому что они будут пугать птиц, которые два-три раза в день прилетают покормиться ко мне в садик.
Много раз я наблюдал за спящей собакой. Нет никакого сомнения, что собаки, так же как мы, видят сны; другие животные, возможно, тоже. Очень трогательно смотреть на спящую собаку, когда она лежит на боку, сучит во сне лапами и радостно взлаивает, словно гонится за дичью. А иногда не шелохнется, не шевельнет лапой, лишь басовито повизгивает, и начинаешь думать, что она испытывает глубочайшее удовольствие. Что ей снится? Еда? Прогулка? Или то, как она была щенком? Все может быть.
Укротители установили, что хищникам — от львов до пантер — тоже снятся сны.
Установлено, кажется, что почти треть жизни у нас проходит в сновидениях и что они нам жизненно необходимы, пусть даже при пробуждении мы порой и не помним их.
Иначе говоря, сновидения являются обязательным дополнением к нашей мыслительной деятельности.
Я опять возвращаюсь к своей старой песне: если животное, подобно нам, испытывает потребность в сновидениях и видит их, почему у него не может быть того, что является оборотной стороной сновидения, — разума, то есть способности мыслить?
Этот вопрос интересовал меня всю жизнь. Я частенько жалел, что я не медик, особенно, что не психиатр. Но на склоне дней я чаще сожалею, что я не зоолог: уверен, что, изучая животный мир, можно лучше понять животное, именуемое человеком.
Мы думаем, что собака, кошка и многие другие звери зависят от нас. А вдруг у них на этот счет противоположное мнение? Мы считаем себя высшими существами, поскольку кормим их. А не считают ли они высшими себя, потому что в некотором смысле мы их слуги?
Вот еще один термин, придуманный нами: домашнее животное.
Мне вспоминаются две строчки Леконта де Лилля о быках и коровах, в солнечный день жующих жвачку на лугу:
Глазами вялыми следя неторопливо
Сон внутренний, тот сон, что тянется всегда[70].
Глаза животных восхищают и внушают великое смирение: мне кажется, будто они меня понимают, а я не способен понять их.
17 декабря 1974
В 1936 или 1937 году мне надо было принимать серьезное решение, важное именно для меня.
До той поры все мои романы, в том числе и не о Мегрэ, сперва печатались с продолжением в тогдашних газетах «Пари-суар», «Ле пти паризьен» «Ле жур» и т. д. С финансовой точки зрения это было очень выгодно: газеты давали мне почти столько же, если не больше, сколько я получал от издателя.
Однако от меня при этом требовали небольшой уступки: не ослаблять действие до самого конца.
Из-за всего этого на душе у меня было скверно. Это происходило примерно в ту пору, когда я писал «Долгий путь», «Бургомистр из Фюрна», «Убийца» и др.
Я хотел пойти как можно дальше в познании человека, не заботясь о том, как потрафить вкусу читателей газет.
Каждый день я собирался перестать печатать свои романы в газетах. И каждый день ощущал страх.
Прав я был или не прав, но мне казалось, что, если я буду и дальше углублять мотивацию человеческих поступков, то от этого может пострадать мое психическое равновесие.
Я вспомнил Ницше, который, достигнув философских и человеческих вершин, кончил жизнь сумасшедшим. Приходили на память Ван Гог, Гоген и даже Рембрандт, умершие в нищете.
Примеров я мог бы привести еще много. Год или два они постоянно приходили мне на ум.
Короче говоря, передо мной стоял выбор. Жить так, как живу, или познавать.
Признаюсь, я не рискнул пожертвовать собой, как те, кого называл, и многие другие. У меня непреодолимая тяга к жизни — я хотел прожить несколько жизней, самых разных, а вовсе не уходить по собственной воле в рискованные изыскания.
Собственно говоря, тогда я решился на своего рода компромисс. Писать я буду со всей искренностью. Буду продолжать попытки постичь человека. Но, я бы сказал, до определенного предела, который на жаргоне летчиков называется «the point of no return» — то есть крайняя точка, откуда назад не долететь.
Я всегда старался держаться этого неустойчивого равновесия. Давать максимум себя, максимум испытать, но держать этот максимум под бдительным контролем.
Когда в семьдесят лет я решил перестать писать романы, иначе говоря, прекратить поиски человека, это произошло потому, что я почувствовал: мой лимит исчерпан.
Решился я на это не с легким сердцем, хотя и физически, и духовно мне стало легче. И теперь, размышляя, как некогда, о художниках, дошедших до края — до психиатрической больницы или до последней степени нищеты, — я порой сожалею о том давнем решении.