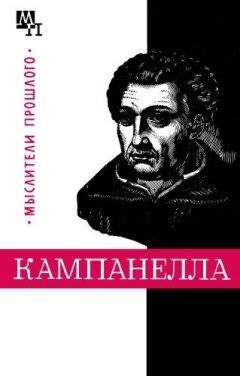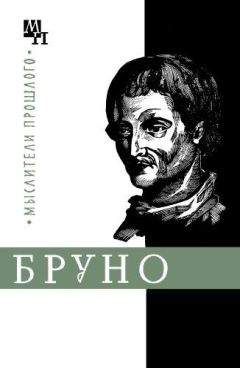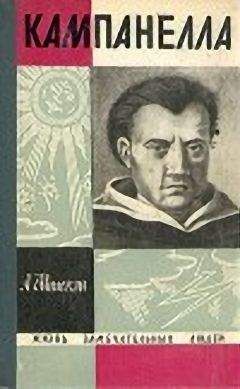Так, я признал, что чужие учения весьма далеки от истины. Я объяснял это тем, что наследники древних восприняли науки не через опыт собственных чувств, но уже выработанными древними и переданными от них потомкам соответственно их разумению. Так что науки оказались крайне запутанными, и лишь некоторые или немногие, и притом с великим трудом, едва оказались в состоянии овладеть ими целиком. А поэтому им казалось чем-то весьма значительным хотя бы воспринять науку от других людей и передать ее ученикам, а не извлечь се из самой природы, изучение которой представлялось столь малодоступным. Поэтому они, достигнув такого рода толкованиями почета среди людей, которые довольствовались чужим изложением, не обращаясь к текстам и не проверяя точность истолкований, уже не стремились к истине, а стали преданными последователями древних и усвоили чужие мнения. Они не обращались к исследованию природы вещей, а изучали только высказывания, и притом даже высказывания не самих философов, а только их толкователей.
И так укоренилось это зло среди людей, что они охотно стали прощать заблуждения, унаследованные от древних, как если бы связаны были обетом, и скорее отвергали собственный чувственный опыт. Главная причина этого была в неких книгах, именуемых диалектическими, так как их предметом являются слова. Книги эти внесли великое смятение своими темными понятиями и вымышленными терминами, имевшими различное значение в разных языках, от которых они дошли до нас, и даже в недрах одного языка. И так как иные рассчитывали прославиться, основательно изучив такие вещи и наловчившись рассуждать о них с другими, они усердствовали в этом, не замечая, что все это враждебно природному чувству, ибо сложность тут заключена лишь в словах, а не в вещах самих по себе.
И перейдя затем к философии природы, которую Аристотель соорудил по своему произволу и с помощью подобных словесных ухищрений, не сверяясь с действительностью, они как бы поклялись, что в свете логики философия Аристотеля является божественной, или, быть может, не смея довериться собственным силам в исследовании природы вещей, полагают истинными его суждения, неопровержимыми его принципы и поэтому считают, что нельзя даже и в спор вступать с теми, кто не согласен с Аристотелем, но должно избегать таких людей. Они и тем уже были довольны, что могли понять его высказывания, и немногим удалось хотя бы прочитать его целиком. Они были охвачены стремлением не постичь истину, но только изложить другим Аристотеля, стяжав славу тем, что они основательно знают его и умеют разрешать противоречия при помощи авторитета цитат, так что они никогда и не достигали истины.
Так они спорят друг с другом обо всем, только не об истине, которую они извращают с помощью высказываний Аристотеля, которых они совершенно не понимают, и вымышленных тонкостей, совершенно не заботясь об истинном смысле и противоречиях в суждениях, стремясь единственно к утонченному толкованию, избегающему согласования с опытом. Если же случайно они и займутся вопросом, подлежащим ведению чувств, то они видят не то, что есть в действительности, но лишь то, что вычитали у Аристотеля, только это делают аргументом и это приводят в ответ на возражения. А если сама природа предмета откроется их противящимся и враждебно настроенным чувствам как явно противоречащая аристотелевым определениям, то они говорят, что он не мог ошибаться, и с помощью пустой и лживой логической болтовни латают ложные суждения Аристотеля. И в качестве последнего довода они утверждают, что интеллект (они ведь составляют душу из многих противоречивых элементов, хотя на деле она едина) учит нас иным образом, нежели ощущения, и считают разумное знание более благородным, как если бы разум состоял из иной непогрешимой субстанции и был в состоянии воспринять что-либо без посредства чувств и как если бы сам Аристотель не говорил, что бессмысленно оставлять ощущения ради умозаключений, и не учил, что всякое знание рождается из ощущения и из вещей, им воспринятых или подобных. Поэтому они пренебрегают всякими чувственными данными, которые изобличают их в противоречиях Аристотелю и самим себе, в то время как те, кто пытается согласовать одно с другим, делают это не без ущерба для того и другого и ценой искажения природных законов.
Избегая, таким образом, познания вещей, они растрачивают время на споры между собой о предметах науки по Аристотелю, об их благородстве, о минимуме и максимуме, о консеквентности, формах, сущностях, понятиях, первом данном познания, об определениях и разделениях — не вещей, а слов, — о субстанции, акциденции, субъекте, предикате, силлогизме, категориях и еще о словах Аристотеля: верно ли, что здесь он доказывает, там говорит предположительно, здесь обобщает, там аргументирует a priori, где действующая, а где целевая причина, — и все эти и иные выдумки касаются не вещей, а только слов Аристотеля.
Поэтому я никогда (клянусь Геркулесом) не видел, чтобы кто-нибудь из них изучал [реальные] вещи, отправился в поле, на море, в горы исследовать природу; они не занимаются этим и у себя дома, а пекутся лишь о книгах Аристотеля, над которыми проводят целые дни. И дело в конце концов доходит до того, что они уже не понимают тех тонкостей, с помощью которых опровергают доводы противников; и даже тот, кто сам первый их придумал, едва в состоянии ответить на возражения; и одни повторяют слова других, из-за чего, отвечая на всякий вопрос, по существу расплываются в рассуждениях: «Само по себе и акцидентально, в потенции или актуально, в аспекте логическом или физическом, во-первых, интенциально, а во-вторых, формально и виртуально…»; а если кто заявит о несостоятельности такого ответа, провозглашают: «Такой-то автор сказал так», ничуть не заботясь о том, чтобы извлечь истину из самих вещей.
Рассмотрев все это, я понял, что наука должна заниматься не словами, а вещами и что она зиждется не на суждениях Аристотеля, не на его умозаключениях и силлогизмах, пришел к выводу, что знание следует извлекать из самих вещей, и направил свои поиски по этому пути. И тогда я решил изложить метод исследования вещей посредством ощущения и опыта, где речь шла бы не о словах и темных высказываниях, но о вещах, с помощью не вымышленных, но самими вещами внушенных понятий. В этом сочинении я показал, каким образом следует вести изучение вещей — через познание их действий, вида, подобия и совпадения, каким образом впадают в заблуждение в этих наблюдениях и особенно как следует приписывать вещам те свойства, которыми они обладают, хотя бы на первый взгляд они казались лишенными этих свойств, и как, напротив, нужно отказывать им в тех свойствах, какими они лишь по видимости обладают, но которых у них в действительности нет: ведь в этом заключен источник заблуждений. Я изложил на бумаге этот метод, избранный мною и позволивший мне открыть истину, насколько это вообще доступно человеку, когда мне не исполнилось еще 19 лет, намереваясь отныне обнародовать плоды моих исследований, с которыми до тех пор ознакомил лишь немногих, ибо я опасался, по юношеской робости, возбудить порицание, если обвиню в заблуждениях своих предшественников (а надо заметить, что я еще в 14 лет принял обет повиновения Доминиканского ордена), особенно из-за того, что те, кому я открыл эти мысли, доносили о них другим, начальствующим, из-за чего я подвергся немалым наказаниям за то, что отвергал суждения великих (как они говорили) философов.