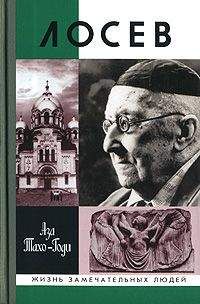Роскошная Венера Джорджоне лежит на лугу, дородное, голое тело... Сказать, что это буржуазная идеология и на том кончить ана¬лиз, еще не марксизм. Был такой Гаузенштейн. По-моему, австрийский марксист. Его переводили у нас со смаком[137] . Для марксизма там кое-что есть, для истории... Самый дух, самый стиль искусства — этого нет. Вот антимарксизм![138] А не Шкловский. Я сам хотел в свое время социологически рассматривать эстетику...
11. 3. 1972. Мы с Леонидом Ефимовичем Пинским у Лосева. Пинский рассказывает о типах евреев. (1) Идеальный. Раввин, который только кольцо одевает невесте. Душа нации. (2) Иуда. Плоть нации. По этому-то типу больше знают евреев другие народы. Его дело нажива. (3) Моисей. Гневный. Сердце нации. Защитник, вождь.
Исайя, Маркс. (4) Семьянин. (5) Соломон. Чувственный, умница, не мудрый. Ум нации. (6) Самсон. Силач. Добрый. Но не дурак, и его не разозли. Жаботинский.
Касты? Нет, у евреев эти типы существуют менее различенно чем касты.
Говорили о романтиках. О переводах. В переводах Пастернака только половина Шекспира и Гёте передана. Адриан Пиотровский. Шервинский.
Пинский: предпочитаю чай, люблю его для цвета, вкуса, духа. Пью на четверть чифирь; верю в чай, его дух. Лосев на это: смотрите-ка, человек не верит в Бога, но в творение Божие верует.
Пинский рассказывает, что в лагере, когда уж совсем не было чая, пили в кружок кипяток. После лагеря выезд за границу для него был невозможен. Всё компенсировалось чтением книг. Шекспиром занимался долго. Заметил, что греческий герой существует каким-то образом вне полиса. А. Ф. был увлечен встречей, но было заметно его скептическое отношение к безверию Пинского. «Всё это хорошо… Ну, ну… Как же он выпутается…»
12. 3. 1972. Продолжаются встречи с Леонидом Ефимовичем. — Прочитали мою книгу[139]? — Нет еще. — А я учился на Ваших книгах, сказал Пинский, у меня широкие интересы. Он захотел прийти еще раз: «Если обнаруживается такая близость, во вторник разрешите снова быть у Вас».
Лосев тоже этого хотел. Кроме формальных любезностей, сказал он после ухода Леонида Ефимовича, может быть разговор более существенный. Правда, он ошибся в своем суждении о моей статье к Хюбшеру [140]. Я же поклонник неоплатоников и античной и средневековой теории. Буржуазное для меня интересно, но слишком абстрактно.
18. 3. 1972. Мы, Аза, годами занимались античной трагедией, а сейчас я думаю, что мы можем понять ее только когда сопоставим с Шекспиром. Нужно несколько типов трагедии сравнить, тогда станет яснее и Шекспир, и античные трагики.
Я думаю, если Пинский напишет специально об античности Шекспира, то это будет что-то значительное. Но мы сами могли бы этим заняться…
Прокофьев барабанит всё время как кулаком по столу. «Музыка века стали». Он может написать в классическом духе, только это его не интересует, его увлекает такое вот бездушие. Но и в самом деле, ведь в слове, в жизни не всё осмысленно. В двадцатом веке складывается технократическая такая, стальная картина жизни.
26. 3. 1972. Лотман хороший литературовед, и поэтическое чувство у него есть. Его теория — она-то тоже подходит, но все-таки, даже включая его, я до сих пор не нашел хорошего изложения знаковой теории. Наверное, надо расширить понимание знака. Всё-таки часто область знака берется слишком абстрактно. Знак у структуралистов имеет слишком служебное значение. На сам по себе знак обращают мало внимания, больше глядят на обозначаемое, от знака при этом остается чисто служебный момент. На самом деле знак дело великое, но он имеет определенное место. Для знака в сущности многое нужно, хотя взятый отвлеченно он очень внешнее понятие. Поэтому лингвистам приходится задним числом приписывать ему небывалое значение. Всегда так было в истории философии. Как начнут мусолить категорию, измучат, изнасилуют ее до конца, а потом бросают и идут к чему-то другому. И так вся человеческая жизнь. Я сколько этих завихрений пережил. Ты знаешь, какие были неокантианцы. Такие были, я думаю, и гегельянцы. То же и марксисты. Человек большей частью бывает ослеплен. Показываешь ему цвета, он не видит. Так всегда. Так и со знаком теперь.
Без знака нет коммуникации. Белое полотно не знак, но на войне оно знак, означающий перемирие. Само по себе полотно никакого отношения к миру и войне не имеет. Иначе всякая вещь, способная служить знаком, была бы словом.
Интуитивно мне кажется, что есть философы модернистского толка, которые употребляют термин стиль. Потому что стиль в этой новой ситуации мировоззренческой должен играть свою роль. Экзистенциалисты, Хайдеггер? Нет, Хайдеггер к эстетике не имеет отношения. Но кто-то, я чувствую, есть.
Существует такая вещь, как определяющая модель.
Вот, например, Чайковскому подвернулась тема Франчески да Римини. Она увлеклась молодым человеком, Паоло. Явился муж, застал их в критическую минуту и обоих уложил, с тех пор вечно витают две тени, тень Паоло Малатесты и Франчески да Римини. Чайковский, прочитав о них, так увлекся, что как сумасшедший бросился к роялю, всю ночь писал, и к утру уже была готова симфоническая фантазия, «Франческа да Римини», там такие облака, громы… Вот что такое модель и как она действует через века. Или «Ромео и Джульетта» Шекспира. Я только не знаю у него истории создания.
2. 4. 1972. Ήγημονικόν— ведущая часть души по учению стоиков. В соответствующем контексте я употребляю слово владычественная.
Вообще русский не любит символ, любит то, что под носом. А символа боится.
16. 4. 1972. Саккетти[141] и его отец собирали книги.
Помню, я читал в трудах Духовной академии диссертацию о Пресвятой Троице, диссертацию «Чудо», толстый том. Но там чудо было разобрано слабо, не проанализировано логически. Я его анализирую в «Диалектике мифа» именно с точки зрения логической категории: что нужно, чтобы мыслить чудо.
Феофан, епископ Полтавский, написал работу «Древнееврейское учение о тетраграмме» — о тайном имени Божием, которое нельзя произносить. Это не Феофан Вышинский, издававший Добротолю- бие и Симеона Нового Богослова: Феофан Полтавский ученый, а тот переводчик.
23. 4. 1972. Лазарев в «Истории византийского искусства» разбирает пространство в древней иконе. Икона хочет выразить умозрительные тела потустороннего мира, и потому трактовка пространства там совершенно особая.
Таких примеров много. Каждая система философии символична. Гегель среди философов один из самых символических. Символ у него и Сфинкс, символ и восточное искусство, и доклассическое. Символ есть явная форма, но форма чего? В греческом искусстве это форма божества, которое является в виде человека. Эта схема у Гегеля гениальна.