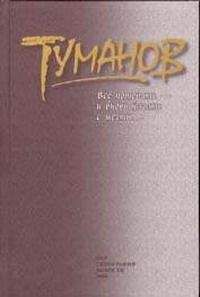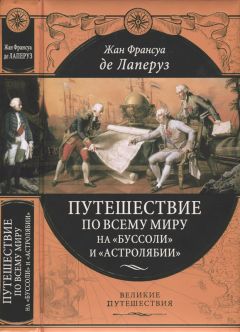Женька имел несомненный авторитет среди солагерников. Не дутый, как многие другие воровские авторитеты, которые возьми на пробу — и они лопнут, как мыльные пузыри: серьезные люди в лагерях на таких не обращают внимания. У Женьки был авторитет настоящий, заработанный тем, что за многие годы парень не менялся, ни к кому не приспосабливался, а, выбрав свой способ существования, оставался верным ему до конца, ни в чем себя не уронил, не давал никому лезть к себе в душу.
Колымские дороги раскидали нас с Женькой в разные стороны, и я много лет ничего не слышал о нем. Где-то в середине 90-х годов в Москве мой помощник докладывает мне: «Вас спрашивает какой-то старичок». — «Пусть заходит». В двери возникает сутулый старик. «Вы, наверное, меня не узнаете? Ваш адрес мне дал Вася Корж. Я — Женька Немец…» Всматриваюсь в его лицо, ищу глаза небесной голубизны, которые видел над собой в сусуманской тюрьме, — где они? «Выцвели!» — улыбается беззубо. Мы обнялись. Женька за свою жизнь отсидел в общей сложности 46 лет. У него двое сыновей, тридцати восьми и восемнадцати лет, оба пошли по стопам отца: один сидит в чувашской колонии, другой — в украинской.
Я предложил ему жить у нас в кооперативе на одном из участков в Карелии, в живописном месте с хорошим климатом. Там есть все: столовая, круглосуточная баня, отдельная комната, телевизор. Первый раз он прожил у нас недели две, потом уехал в Ленинград. Месяца через два вернулся в Карелию. Мы положили его в больницу, лечили. Он снова уехал — на Украину, на родину. Еще месяца два-три передавал приветы по телефону, потом исчез.
Я помню наш последний разговор в Москве. Сам-то ты как? — спрашиваю.
Трудновато стало работать, Вадим… Пальцы не гнутся! А что, все тянет к прошлому?
Конечно, тянет. Я же ничего другого не умею. Охота заниматься своим ремеслом, а пальцы не гнутся!
Женя, а тебе не приходило в голову, что вообще твоя жизнь могла бы сложиться иначе? Наверное… Я же не дурак, как я думаю.
Вошедший во время разговора маркшейдер Лысенков принимает гостя за провинциального музыканта и сочувствует проблеме с пальцами.
— Пенсия, — спрашивает, — мизерная?
— Какая пенсия?! — изумляется Женька. — Что пальцами заработаю, на то и живу.
— И давно играете? — любопытствует Лысенков. Он уверен, что перед ним музыкант, у которого такая беда — пальцы не гнутся.
Женьке без разницы, как обозначают его ремесло. И на вопрос, давно ли «играет», отвечает с достоинством:
— Профессионально — лет шестьдесят.
— Да, — восхищенно смотрит на Женьку Лысенков, — одержимый вы народ, музыканты! Мы с Женькой не могли удержаться от смеха. Захохотал и маркшейдер, узнав, с кем он говорил на самом деле.
А я снова вспоминаю. 1954 год, осень, меня вызывают на заседание суда по делу о резне в жензоне. Процесс проходил в сусуманском центральном клубе. Среди подсудимых на возвышении сцены все, кого посчитали причастными. Не было только Мелик-Акопова по кличке Турок, умершего в изоляторе на прииске «Большевик». Колька Турок был интереснейшим человеком — начитанным, грамотным, читал наизусть Шекспира.
Несмотря на то что процесс был закрытым, зал переполнен, публика — в большинстве офицеры. Обвинение представлял прокурор Федоренин, один из тех, кто многим запомнился как мерзавец по работе в Тенькинском районе, особенно на штрафняке Прожарка.
Я прохожу. Судья задает вопросы, обычные — фамилия, имя, отчество, затем — кого знаю из обвиняемых. Отвечаю, что знаю всех. Он уточняет: назовите, кого знаете.
— Живов Виктор, Николаев, Барабанов, — начинаю перечислять я.
— Как кличка? — показывает на Живова судья. Говорю, что кличек не знаю.
— Что вы делали в тот вечер, когда произошла резня?
— Я находился в портновской мастерской вместе с Борисом Барабановым. Прокурор Федоренин вскакивает с места и кричит: «Вы же видите, что он его выгораживает! И кого вы спрашиваете — он сам звезда лагерей!» Отметив про себя такое дурацкое выражение, я обращаюсь к судье:
— Гражданин судья, видимо, прокурор путает. И, я думаю, вам видно из документов, за что я впервые сел.
Здесь судья перебивает меня: «Это-то я вижу, но что вы нахватали уже черт-те что, столько статей, мне тоже видно. Продолжайте». Я повторил, как все было в действительности.
Следующим после меня давал показания старший надзиратель, которому шили шинель. На вызов он шел строевым шагом, перед судьей остановился и доложил по форме. В зале смешок: высоко пришитый хлястик бросался в глаза. На вопрос судьи, кого знаете: «Усих знаю!»
— Хто такой Мелик-Акопов? Це, скажу, Турок Колька — бог ворив. Хто такой Живов — Витька, кличка Живой. Це ж такый, як лысычка, так ласкаво говорыть, а зарежеть — не моргнэ.
Потом о Николаеве Кольке — Золотом, о других. И так подробно обо всех подсудимых. В суд меня больше не вызывали, но мои показания, уверен, повлияли на приговор: Борису Барабанову, первоначально приговоренному к расстрелу, при пересмотре дела дали 25 лет.
Отсидев полтора месяца подследственным по делу о резне в жензоне, я с группой других заключенных, человек сорок, был отправлен на Случайный. С этим штрафным лагерем, в котором я не раз бывал, связано много всяких историй, в том числе веселых.
Одну из бригад послали рыть ямы и ставить столбы электропередачи. Вечером воры набросились на землекопов, в числе которых тоже были воры:
— Вы, суки! Что творите? Мы будем отсюда рвать, а вы строите линию, чтобы потом по этой линии позвонили?
— Это ж не телефонная связь! Это электролиния!
— Вам сказали «электролиния», а завтра навесят телефонные провода!
На следующий день они выходят на работу и дружно спиливают столбы, которые с таким трудом ставили накануне.
Случайный — штрафняк страшный.
Когда сюда попали первые этапы, бараков еще не было, стояли брезентовые палатки, обложенные мхом. Посреди каждой палатки — печка из металлической бочки и вокруг двойные нары. Бригады выводили проходить разведочные шурфы. Рабочим выдавал ватные варежки, которые рвались через несколько дней работы с ломом. Были случаи, когда заключенные, чтобы сберечь варежки вырезали из палаток брезент и нашивали на свои рукавицы. Это прекратилось, когда жившие в палатках кого-то поймали и убили.
Я помню, как, возвращаясь с работы в темноте, при сильных мо розах, мы входим в палатку. Кажется, в ней еще холоднее и неприятнее, чем на улице. На печке сидит дневальный Коля Мызников глупо улыбается. Стоим, поеживаемся. Тишину нарушает Володька Зонненберг, один из очень известных карманников. С сильным акцентом, плохо выговаривая «р», он говорит обреченно: «На улице могоз. Палатку погезали. Завтга на габоту…» Палатку сотрясает хохот всей бригады. И сразу как будто все потеплело вокруг.