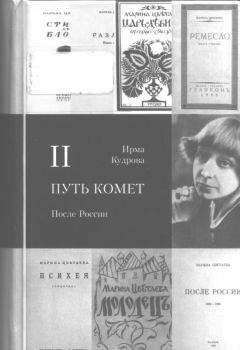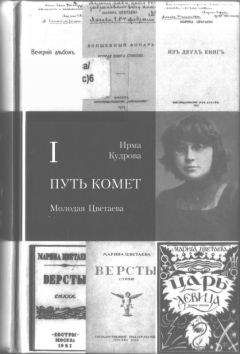Одним своим концом улица Жанны д’Арк вливалась прямо в огромный медонский лес, где некогда охотились французские короли. Окраина леса была замусорена жестянками из-под консервов и засаленными бумажками — их Марина Ивановна собирала и ожесточенно сжигала в кострах, несмотря на строжайший запрет властей разводить здесь огонь. С маленьким Муром далеко не уйдешь, но когда удавалось пойти на прогулку одной или с кем-нибудь из друзей — она готова была бродить по лесу часами.
С сыном. Медон, 1928 г.Если же идти от дома, где они жили, в другую сторону, дорога круто поднимается в гору. По улице Пьер можно пройти мимо дома Мадлен Бежар, где жил в свое время Мольер; еще выше расположилась дача философа Жака Маритэна, которого Цветаева изредка встречала теперь в Париже на «франко-русских встречах». С верхней террасы Медона в ясную погоду открывается прекрасный вид на Париж: город лежит как на ладони — от базилики Сакре-Кёр до Эйфелевой башни.
Сюда, в Медон, осенью 1927 года приезжала к сестре в гости Анастасия Цветаева, здесь навестил Марину Ивановну во время парижских гастролей Вахтанговского театра Павел Антокольский. К медонскому времени относится и глубокая сердечная дружба Цветаевой с поэтом Николаем Гронским; теплые отношения завязались тут с художницей Гончаровой и с той же Извольской — переводчицей, писательницей и публицисткой. Медонское пятилетие оказалось насыщенным творчески; впрочем, у великой труженицы Цветаевой иного не было — вплоть до самого конца тридцатых годов! В Медоне написаны трагедия «Федра», «Поэма Воздуха», поэмы «Красный бычок» и «Перекоп», эссе «Наталья Гончарова», французский вариант поэмы «Молодец».
Материальное положение семьи резко ухудшилось с начала 1928 года. Из семейного рациона исчезли мясо (включая конину) и яйца; сливочное масло полагалось только маленькому Муру; сладкого уже не полагалось никому вообще.
Счастьем было то, что годом ранее удалось-таки издать книгу стихотворений, написанных после отъезда из Москвы. Она так и назвала ее — «После России»; сюда вошла вся лирика берлинского и чешского периодов.
Увы, книга оказалась последней: за семнадцать лет эмиграции, при неустанной работе и необычайной плодовитости Цветаевой, других у нее так и не появилось. Ни поэтических, ни прозаических. Не принесла ни франка и эта книга; впрочем, другого не ждали.
Обложка книги «После России»Три ведущих в русской эмиграции критика на страницах трех ведущих эмигрантских газет откликнулись на выход «После России». Авторами рецензий были — Марк Слоним («Дни»), Владислав Ходасевич («Возрождение») и Георгий Адамович («Последние новости»). Во всех трех откликах оценка цветаевской книги в целом была положительной, однако содержательной стороны лирики коснулся, по сути, только Слоним, отметивший: «…ее творчество всегда — порыв от земного в другую, истинную реальность». На первое же место в рецензиях вышел разговор о необычной форме стихотворений. Что это — ребус, требующий разгадки, самодовлеющая игра словами или язык поэзии завтрашнего дня? «Это не поэзия будущего, — уверенно утверждал Адамович, — а архи-вчерашняя». Но еще и другие критики, хвалившие ранние поэтические книги Цветаевой, дружно заговорили о кризисе в ее творчестве, о том, что Цветаева растеряла присущие ей прежде легкость и изящество, «загубила свой дар бессмысленным экспериментаторством». Вызваны эти суждения были резко усложнившейся поэтической стилистикой.
Владислав Ходасевич считал, что Цветаева «не права, слишком часто заставляя читателя расшифровывать смысл, вылущивать его из скорлупы невнятицы, происходящей не от сложности мысли, а от обилия слов, набранных спешно, бурно, без выбора, и когда, не храня богатств фонетических, она непомерно перегружает стих так, что уже нелегко выделить прекрасное из просто оглушающего…». «Спешно, бурно, без выбора»… Не видел он черновиков цветаевских, чудовищного количества ее вариантов! А все же он признал замечательные достоинства новой поэзии Цветаевой. И даже поставил ее поэтические достижения несравненно выше пастернаковских.
Стихи Цветаевой, откликался в своей рецензии неизменно дружественный Слоним, «полны такой подлинной страсти, в них такая почти жуткая насыщенность, что слабых они пугают, — им не хватает воздуха на тех высотах, на которые влечет их бег Цветаевой»…
Перемены в цветаевском творчестве явились отнюдь не как deus ex machina, — они накапливались постепенно. Главным толчком для них послужили не экспериментаторские задачи и не книжные источники. Таким толчком оказались жизненные потрясения: смерть младшей дочери, разгром Белой Армии и почти полная уверенность в гибели мужа, готовность к собственному уходу из жизни, отчетливо отразившаяся в цикле «Разлука». Годы революции, пережитые в Москве, во внутренней биографии Цветаевой были временем, пронизанным сильнейшими токами напряжения; это не могло пройти бесследно для поэта, творчество которого по самой природе своей было глубоко сращено с личными переживаниями. Мучительные испытания, пережитые утраты изменили цветаевский взгляд на мир; и это не могло не сказаться на ее поэтическом творчестве…
Злополучное «Приветствие Маяковскому» долго еще аукалось Марине Ивановне.
Оно не понравилось не только Савицкому. Вся эмигрантская пресса расценила его однозначно — как одобрение не творчества Маяковского, а режима советской России. В письме к Р. Н. Ломоносовой Марина Ивановна с иронией передавала фразу, сказанную Милюковым: «Она приветствовала представителя Советской власти!»
И в наказание Цветаеву отлучают два крупнейших эмигрантских издания: газета «Последние новости» и журнал «Современные записки». Первая допустит на свои страницы цветаевскую прозу только спустя четыре года после инцидента, второй — через девять номеров, то есть через два с половиной года! (Легко себе представить, как отозвалось это «отлучение» на бюджете цветаевской семьи.)
Разумеется, это не помешало Марине Ивановне в следующий, последний приезд Маяковского во Францию весной 1929 года снова пойти на его выступления и даже по просьбе поэта на одном из вечеров помогать ему в качестве переводчицы.
Но чувство благодарности (по крайней мере, по отношению к Цветаевой) Маяковского явно не тяготило. Публично он высказывался о ее стихах с неизменным пренебрежением, «предостерегая» доверчивых читателей от «классово чуждого» поэта. Именно так он упоминал ее в статье 1926 года. А осенью 1929-го, выступая в Москве на заседании правления РАППа, позволил себе грубый, чтобы не сказать резче, выпад против цветаевской поэзии, не утруждая себя аргументацией. Это публично.