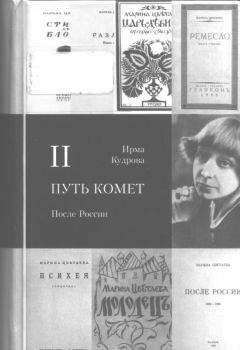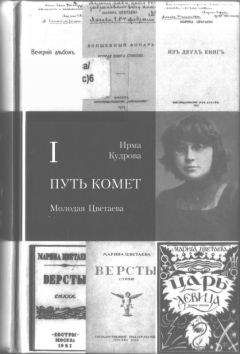Мы смотрим на жизнь Запада из окон эмигрантского постоялого двора. И взгляд наш не является взглядом жадного на впечатления путешественника, а мертвым глазом застрявшего в пути, раздраженного, опустошенного, ничем, кроме расписания поездов, не интересующегося пассажира. Семь-восемь лет живем мы так, брюзжим друг на друга (совсем как в дороге), судим об окружающем нас мире по станционным строениям и буфетным стойкам, тщетно вперяем взгляд в заросшие чертополохом пути, вслушиваемся, не загудит ли долгожданный паровоз, с жадностью ожидаем прибытия свежей партии газет и особенно раскупаем те из них, которые печатают жирным шрифтом о скором прибытии застрявшего поезда…»
В свете последующей биографии Эфрона особенно важна концовка этой большой статьи:
«Но может быть, возвращение в Россию через советское полпредство и есть лучший выход из тяжкого безвоздушного эмигрантского бытия? Может быть, прав А. В. Пешехонов, задерживающийся меж нами, эмигрантами, до получения необходимой печати на паспорте? Следуя его разумному примеру, позволю себе и я разрешить этот вопрос лишь в личном порядке. Наши положения не схожи: как рядовому бойцу бывшей Добровольческой армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, может быть, даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться.
Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами — отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: могила Добровольческой армии».
4
В самом конце 1929 года у Эфрона вспыхнул туберкулезный процесс в легких. Друзья выхлопотали для него стипендию Красного Креста, и это позволило Сергею Яковлевичу почти десять месяцев с небольшим перерывом провести в русской санатории в горной Савойе. Летом 1930 года Цветаева приехала туда же с сыном; немного позже, сдав экзамены во французской школе рисования, в Савойе появилась и Ариадна.
В трех верстах от санатории сняли маленький старый домик, почти прилепившийся к горе, в стороне от остальной деревни. В огромном дворе, рядом с сараями и сеновалами, возвышалась давно отслужившая мельница.
Лето выдалось дождливое, грозовое, иногда гроза гремела по два и три раза в день; всего несколько недель простояли по-настоящему летних.
Ближний лес от дождей отсыревал, продираться сквозь мокрые заросли плюща и ежевики было нелегко. Под ногами хлюпала вода.
В деревне, кроме молока и сыра, ничего нельзя было купить, и через день-два приходилось ходить за провизией в ближайший городок Ла Рош, на рынок.
И все же здесь было прекрасно. Блаженная тишина, блаженные часы наедине с тетрадью, с природой, прогулки, приветливые лица местных крестьян.
Летние месяцы давали Марине Ивановне ничем не заменимый заряд энергии. Осенью, по возвращении, начиналась неизбежная и стремительная его растрата…
Последние месяцы 1930 года прошли для Эфрона под знаком безуспешных попыток найти хоть какой-нибудь заработок. Конец «Евразии» оставил его в безвоздушном пространстве. Диплом, полученный в Праге, не имел решительно никакого веса во Франции. Плохое здоровье не позволяло идти на завод или фабрику; стать шофером такси считалось неслыханной удачей, на которую нельзя было и рассчитывать. Но, кроме всего, Сергей Яковлевич, хотя и снизил уровень своих надежд и притязаний, все же оставался неисправимым идеалистом.
Всеобщее увлечение «синема» сыграло свою роль в том, что в ноябре 1930 года, вернувшись из Савойи, он записывается на частные курсы при известной кинофирме Пате. За зиму он приобретает некоторые знания и навыки и уже весной тридцать первого с увлечением бродит по Парижу с кинокамерой в руках, разыскивая сюжеты и практикуясь в операторском искусстве.
Курсы стоили денег, отняли немало времени и, разумеется, оказались напрасной затеей.
Наивно было и предполагать, что потом он сумеет устроиться в какую-нибудь кинофирму, — их владельцы в эти годы экономического кризиса, освобождаясь от излишней рабочей силы, в первую очередь выбрасывали на улицу иностранцев. Но Эфрон упорно пытался заняться тем, что ему было по душе.
В «синематографе» он подрабатывал в 1927–1928 годах, снимаясь как статист в нескольких фильмах. Если сохранились ленты «Жанна д’Арк» и «Казанова», его можно разглядеть на экране — во всяком случае, в письме к сестре в Москву он надеялся, что она его там узнает. Работа статиста была и непрестижна, и утомительна, и все-таки Сергей Яковлевич умудрялся получать от нее удовольствие: с увлечением разыскивал у знакомых старый фрак, по ходу съемок несколько раз прыгал с моста в Сену. «Презреннейший из моих заработков, но самый легкий и самый выгодный, — писал он Елизавете Яковлевне Эфрон в Москву. — За одну съемку получаю больше, чем за неделю уроков». Значит, были еще и уроки…
У Цветаевой — свои неудачи.
Она закончила наконец перевод на французский язык любимой своей поэмы «Молодец». Эта огромная работа была стимулирована тем, что «Молодец» очень понравился Наталье Сергеевне Гончаровой, о которой Цветаева в 1929 году написала очерк-эссе. Гончарова сделала иллюстрации к поэме и пожалела, что нет ее текста на французском — тогда бы появилось больше шансов издать иллюстрированную книгу. И Цветаева взялась за перевод. Ее увлекла и надежда обрести французского читателя.
Скоро выяснилось, однако, что простой перевод невозможен — нужно заново создавать поэму. Работа заняла почти восемь месяцев.
Теперь она была завершена. Марина Ивановна делает попытки заинтересовать книгой какого-нибудь французского издателя. Ничего не выходит. Не помогает и имя Гончаровой, прославившейся во Франции в середине десятых годов декорациями и костюмами к спектаклю «Золотой петушок», показанному на парижской сцене. Только что она разделила успех с мужем, художником М. Ф. Ларионовым, — в связи с постановкой пьесы Савуара «Маленькая Катрин» в театре «Антуан»; их декорации и костюмы хвалили во всех рецензиях на спектакль.
Друзья Цветаевой устраивают авторское чтение поэмы в присутствии то одного, то другого влиятельного «литературного француза». Но поэма слишком нестандартна, французский стих ее непривычен, сознательно нетрадиционен — Цветаева и тут шла по пути новаторства. Короче говоря, поэма не нравится, хотя прямо об этом автору не говорят. Из «Нувель Ревю Франсез» текст поэмы перекочевывает в издательство «Галлимар», потом какое-то время ждет своей участи в редакции журнала «Коммерс».