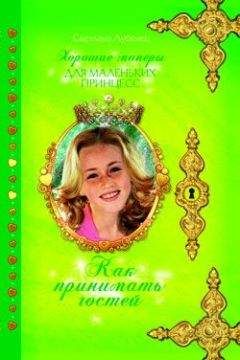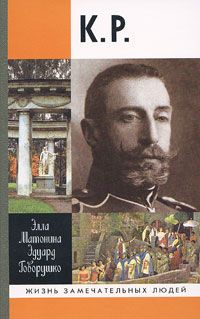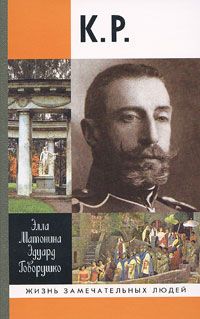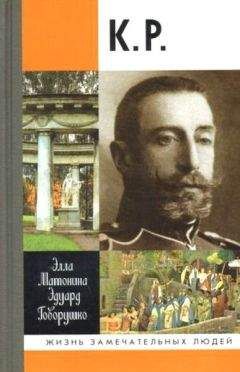бывать за кулисами.
– У тебя есть свой император. Отчего чужого носишь? – спрашивает царь актера.
– Не годится здесь быть своему.
– Почему же?..
Санин как актер из анекдота, достает кошелек, держит его, как табакерку, и, перед тем как бы понюхать, стучит двумя пальцами по носу Наполеона. Потом кошелек-табакерку раскрывает, нюхает, чихает и говорит: «Здравия желаю Ваше Императорское Величество!» На внутренней крышке – портрет русского царя.
– Изобразите Каратыгина! – просят дамы.
– Ну сколько можно! – ворчит Александр Акимович.
– Пожалуйста!
Голосом сказителя Санин начинает:
– Во время антракта Николай I подошел к великому Каратыгину. – Голосом царя:
«Вот ты, Каратыгин, очень ловко можешь притворяться кем угодно. Это мне нравится».
«Могу играть и нищих, и царей, Ваше Величество», – в голосе лукавство, в осанке достоинство, в лице – любезность.
«А вот меня, пожалуй, не сыграешь», – вроде бы шутит император.
«Если позволите, сию минуту изображу!» – это с закрытыми глазами, как прыжок в ледяную воду.
«Ну попробуй», – добродушно, но с тайной угрозой и недоверием позволяет царь.
Каратыгин-Санин становится в позу, характерную для Николая I. Обязательно полупрофиль. И царственно говорит Собинову (он – вроде бы Гедеонов, директор императорских театров):
«Послушай, Гедеонов. Распорядись завтра в двенадцать часов выдать Каратыгину двойной оклад».
«Гм-гм… Недурно играешь», – озадаченно поднял брови царь.
На следующий день Каратыгин, отбиваясь от изумленных товарищей по сцене, пересчитывал пачку двойного оклада.
– Но у меня этих денег нет, – под общий хохот заканчивает представление Санин. – А знаешь, почему в вашу Тверь Николай I никогда не ездил?
Лидия Стахиевна машет рукой:
– Ты все выдумываешь…
– Не я, а народ. И все потому, что анекдоты составляют ум для стариков и прелесть для детей. – Так изящно утверждали в старину. Так вот. Где-то в тридцатые годы Николай Павлович ждал в Твери переправы через Волгу. Была непогода. Поставщик стола государя, тверской купец-богач, подал такой счет за кушанья, что в свите царя все изумились.
«Неужели в Твери все так дорого?»
«Нет, слава Богу», – перекрестился богач. Но для государя цены особые, нельзя же ему продавать как всякому прочему.
Николай I пожелал видеть купца:
«Значит, с меня надо брать как можно дороже?»
«Точно так, ваше величество. Товар и цена всегда по покупателю».
«Пожалуй, у вас в Твери жить мне было бы не по карману», – сказал царь и никогда больше не останавливался в Твери.
– Анекдот адрес перепутал, – воспротивилась Лидия Стахиевна. – Это о купце вятском, человеке хватском…
Санин, как всегда, легко с ней согласился, откинулся на спинку стула:
– Хорошо бы Лене Собинову русский романс спеть, – вздохнул и поднес руку ко рту.
– Саша, ты не граф Петр Иванович Панин, который все ногти сгрыз, пока слушал «Устав о соли», сочиненный Екатериной II, – шепнула ему жена, и он отдернул руку.
Романсы пели уже у Собиновых. Это был настоящий русский вечер. Говорили о России, о друзьях, которые живы и которых нет. Родной язык, русская музыка, череда московских воспоминаний. Леонид Витальевич и Лидия Стахиевна пели. Она была оживлена, красива, словно за окнами сад, аллеи, русские соловьи, а за плечами нет прожитых лет и потерь.
Наутро Собиновы уезжали в Италию. Они побывали в Венеции, наслаждаясь dolce far niente [3], прочитывали от доски до доски русские газеты, приходившие из Советской России в Мариенбад и пересланные в Венецию Саниным. Потом отправились в Милан и были совсем близко от Саниных, которые, закончив лечение, «давшее блестящее результаты», тоже обосновались в «благодатной и лучезарной Италии», в Мерано, откуда Александр Акимович пишет Собинову строки, вырвавшиеся из самых глубин его тоскующей по родине души. Он пишет, что бегут дни и его друг отделяется от него и от Лиды все дальше и дальше и ему от этого все горше и горше. Он пишет, что в мире стало тяжело, нескладно, утомительно, что люди дошли до звериного недружелюбия. Все забаррикадировались, каждый живет в своей хижине в этом тревожном 34-м году. А между тем, продолжает Санин, жизнь прекрасна, пленительна: как красиво угасал сезон в Мариенбаде, как исправно светит солнце, и в окно глядит лето, почти московское лето перелома июня и июля, примерно на Петра и Павла.
«Ах, люди, людишки!! Что за приятность осложнять свое существование, портить себе жизнь?!!» – расстраивается этот русский человек, чувствуя приближение погибельной войны. И дальше: «Не хочется кончать письма, а надо!! Самое дорогое, важное, трогательное, что ты мне за эти дни сказал, – это то, что я «остался Русским!» Да, это так!! И не только со стороны внешней! Верую в спасительную, гуманизирующую, высоко культурную роль и силу искусства!! Подхожу к моей задаче и творю мое дело, как могу, но всегда по-русски – ив этом черпаю и вдохновение, и огонь, и смысл всего моего существования!.. Кланяюсь земно родине Великой, Москве моей ненаглядной, меня взрастившей!!. Не забудь передать бесценному моему Константину Сергеевичу все то, что я тебя просил! Христос с тобой, и дорогой Ниной Ивановной, и со Светлашей!!!
Твой искренне А.А. Санин.
Моя Лидуша всех Вас, всю «тройку» сердечно приветствует и нежно целует».
Еще одно письмо – 8 октября – он отправил Собиновым, ехавшим в это время в Россию через Ригу. В Риге Собинов скоропостижно скончался. Известие настигло Саниных в Париже, куда настоящая осень погнала их из Италии.
Это была страшная для них утрата. Связь, последняя по времени, живая, проникновенная – оборвалась, еще одна между ними и родиной.
И вдруг разные страхи, как волки, набросились на душу Лидии Стахиевны. Все ощутимей становилось одиночество на чужбине. Санин ворчал, что это озверение, разгораживание,
превращение Европы в шахматную доску результат Первой мировой войны, но не вторая ли такая же или пострашней грядет? А они так далеки от дома. Его затягивала эта жизнь: приглашения, всеобщее внимание, успех, дифирамбы, триумфы. Он еще чувствовал себя миссионером, полпредом русского искусства в чужеземном мире. Все повторял: «Я русский. Я остался русским. В этом моя гордость, мое счастье». Лидия Стахиевна не раз замечала, что в рецензиях он прежде всего ищет подтверждение того, что его художественное творчество родилось и живет на его родине. Работает он без передышки, хотя ни добра, ни сбережений нет как нет – потребности дня, и только. Но главное, не думает совершенно о здоровье. Не стало вот милого дорогого Леонида Витальевича… Казалось, здорового и жизнестойкого… А ведь Саша, думала она со страхом и горечью, очень тяжело переболел – год ушел на выздоровление. Недаром, только вернулись в Париж, раздался звонок доктора.