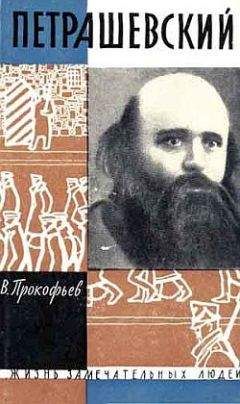В обзоре Вы изволите усмотреть удобнейшее средство к арестованию виновных. Предложение это будет исполнено, ежели Ваше Величестзо не сделаете каких-либо изменений. По моему мнению, это вернейшее и лучшее средство…»
Николай одобрил, просил спешить, но без огласки и…
«Дай бог во всем успеха!»
Ночь тянется бесконечно, теплая, апрельская. Одно за другим потухают окна, и дома проваливаются в черноту. Месяц едва теплится где-то там, высоко-высоко. На землю свет сеется, как дождевая пыль. Стучат колотушки сторожей, да Петропавловская крепость вскрикивает протяжно, уныло:
— Слу… ша-ай! Месяц скатился к горизонту, его света теперь хватает только на то, чтобы чуть-чуть припудрить серебром редкие облака. Темнота сгустилась, собралась, как перед прыжком, — еще немного, и её вспугнут первые лучи солнца.
Светится окно в спальне императора. Горят окна дома у Цепного моста. А кругом темно-темно.
Четыре часа утра. Петрашевский устало потягивается. Захлопнулась дверь за последним посетителем. Теперь можно и отдохнуть.
Гаснет лампа. В открытую форточку вдувается предутренняя свежесть, сырость тающих снегов.
Волнение вечера еще не улеглось. Сколько несогласий во мнениях, даже среди близких по духу и идеям людей! Хотя теперь, после того, как он видел реакцию этих людей на письмо Белинского, разногласия его не пугают. Это просто разница темпераментов, цели же остаются общими.
Сегодня он говорил о литературе и журналистике. И, кажется, все сошлись на том, что журналистика в Западной Европе потому и имеет такой вес, что там всякий журнал — отголосок какого-нибудь определенного класса общества. А русская — вся насквозь пропитана духом спекулятивности, не то что на Западе. Там каждый знает, о чем пишет, а наши писатели со школьной скамьи воображают, что гении, и спекулируют этим, ровно ничего не зная.
Только ушли писатели — Достоевский и Дуров, как Баласогло стал исходить желчью. Он назвал литераторов людьми тривиальными, безо всякого образования, убивающими время в безделье…
— Посещали наши собрания, — язвил Баласогло, — уже три года, могли бы, кажется, пользоваться и книгами и хоть понаслышке образоваться, а ни одной порядочной книги не читали, ни Фурье, ни Прудона, ни даже Гельвеция!..
Мысли путаются. Петрашевский засыпает прямо в халате.
На лестнице какой-то шум. Вспыхнувший свет пробивается сквозь щели в двери. Куда-то движется…
Перед Петрашевским генерал. Голубой! Он знает его. Это Дубельт.
Ну и приснится же всякая чертовщина!..
— Будьте любезны одеться и ехать со мной в Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии!
Петрашевский крепко зажмуривается. Трясет головой.
Генерал не исчезает.
Михаил Васильевич подтягивает оторванный рукав халата и велит казачку подать сапоги.
— Я готов!
— Однако!.. — Дубельт шокирован. Это уже слишком. Неуважение к властям. Лично к нему.
— Неужели вы думаете ехать в таком костюме?
— Сейчас ночь, а я в это время не привык одеваться иначе…
Дубельт овладел собой. Этот забияка еще припомнит генерала. Но каков Липранди, остался в карете. Генерал вспомнил, что Антонелли предупреждал о возможности вооруженного сопротивления.
— Вы не знаете, с кем вам придется говорить, и я советую вам надеть более приличное платье…
— Ладно.
Генерал рассматривает огромную библиотеку хозяина.
— Генерал, ради бога, не смотрите этих книг.
— Почему же?
— Потому, что у меня, видите ли, есть только запрещенные сочинения; при одном взгляде на них вам станет дурно!
— Почему же вы бережете такие книги?
— Это дело вкуса.
Генералу нечего возразить. А Петрашевский уже добродушно покачивает головой. Он готов!
Достоевский воротился домой уставший, довольный и завалился спать. Это была славная «пятница», что бы там ни говорили о литераторах. Зашли потом к Григорьеву, малость «разговелись», и теперь голова приятно кружится.
Перед глазами мелькает конский хвост. Почему хвост? Почему конский? А!.. У извозчика была такая забавная лошадка, сама серая, а хвост белый…
Или это отсвет серой ночи?..
— Вставайте!..
Лошадка махнула хвостом и заржала. Заржала таким приятным мягким баритоном и нацепила на себя пушистые подполковничьи эполеты!..
Потом она стала голубой и за что-то со звоном зацепилась.
— Что случилось? — Достоевский хотя и привстал с кровати, но сон еще туманил ему глаза.
— По повелению…
Федор Михайлович, наконец, проснулся. Частный пристав в окладе лохматых бакенбардов. Голубой жандармский подполковник с лошадиным хвостом на каске, лошадиным оскалом и приятным баритоном. Голубой солдат с саблей у дверей, унтер из тех же голубых…
«Действительно, по повелению…»
— Позвольте же мне…
— Ничего, ничего, одевайтесь. Мы подождем-с, — мурлыкал жандармский конь, запуская копыто в ящик письменного стола.
Пристав бакенбардами выметал золу из печки. Длинный чубук хозяина, которым он шарил там, только подымал пыль.
Унтер, пыхтя, уцепился за карниз печи. Достоевский с интересом следит за его натужливым усердием. Карниз обрывается. Унтер опрокидывает стул и летит на пол.
Подполковник уже не мурлыкает.
Пристав уперся пальцем в пятиалтынный, лежащий на столе.
Достоевский понял его намерение:
— Уж не фальшивый ли? Пристав пойман с поличным.
— Гм… Это, однако же, надо исследовать… И со вздохом монета присоединена к «делу».
— Я готов!
Здание у Цепного моста все еще светится подслеповатыми окнами, хотя утро уже подвесило солнце над хмурой Невой.
У подъезда стопорят кареты. Одна отъезжает, подлетает другая. Как будто торопятся на бал.
Но на улицу не прорываются звуки кадрили.
«Гости» в зале перед кабинетом начальника штаба корпуса жандармов Дубельта заспанные, одетые кое-как. Они стоят полукругом, и каждого отделяет от соседа солдат. В зале слышится сдержанный говор. Когда он усиливается, солдаты стучат прикладами о паркет.
Суетится какой-то статский чиновник. Он — в который раз! — проверяет по длинному списку арестованных.
А они прибывают и прибывают.
Штабс-капитан Кузьмин появился совсем как на званый вечер. В парадной форме и с миловидной дамой.
Дама в списке не значится. Генерал Сагтынский возмущенно спрашивает Кузьмина:
— Кто эта дама?
Кузьмин с улыбкой отвечает по-французски:
— Зачем же ее привезли сюда?
— Да уж таков этот жандармский капитан!